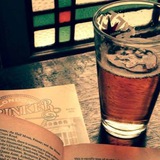Агамбену эта жизнь уже абсолютно понятна, конечно.
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
☭☭☭ Джорджо Агамбен:
Люди настолько привыкли жить в условиях вечного кризиса и вечного чрезвычайного положения, что, похоже, не замечают, что их жизнь сведена к чисто биологическому состоянию и лишилась не только всех социальных и политических свойств, но и человеческих и эмоциональных. Общество, живущее в условиях многолетнего чрезвычайного положения, не может быть свободным обществом. На самом деле мы живем в обществе, которое пожертвовало свободой ради так называемых соображений безопасности и поэтому обрекло себя на жизнь в вечном состоянии страха и незащищенности.
Люди настолько привыкли жить в условиях вечного кризиса и вечного чрезвычайного положения, что, похоже, не замечают, что их жизнь сведена к чисто биологическому состоянию и лишилась не только всех социальных и политических свойств, но и человеческих и эмоциональных. Общество, живущее в условиях многолетнего чрезвычайного положения, не может быть свободным обществом. На самом деле мы живем в обществе, которое пожертвовало свободой ради так называемых соображений безопасности и поэтому обрекло себя на жизнь в вечном состоянии страха и незащищенности.
😱7❤2
«Граница между тем, что считается «государством» и «обществом», постоянно меняется в зависимости от политической ситуации. В качестве примера Митчелл приводит случай с консорциумом «Арамко». После повышения в 1940-х годах арабскими властями налога с 12% до 50 % прибыли американские нефтяные компании, входившие в этот консорциум, встали перед сложным выбором. Вместо того чтобы поднять цены на рынке США или урезать собственные прибыли, корпорации договорились с федеральным правительством рассматривать их увеличившиеся платежи шейхам как своего рода прямой иностранный налог, и таким образом они были освобождены от эквивалентной суммы налогов, поступавших в федеральный бюджет США. В этом случае демаркация границы между «частными» нефтяными компаниями (которые тем не менее были настолько сильны, что смогли прямо повлиять на решение федерального правительства) и «государством» позволила вывести из сферы общественного обсуждения политическое решение о поддержке консервативных режимов на Среднем Востоке за счет американских налогоплательщиков: ведь государство не может вмешиваться в дела «частного бизнеса». Митчелл заключает: «Мы должны рассматривать такое противопоставление не как границу между двумя четкими отдельными единицами, а как линию, проводимую внутри сети институциональных механизмов, за счет которых и поддерживается социальный и политический порядок». Тогда задача состоит в изучении политических процессов, посредством которых определяется эта нечеткая и постоянно передвигаемая граница между государством и обществом.
<...>
Как получается, что некоторые люди начинают не просто рассматриваться как индивиды, а признаваться в качестве государственных служащих и таким образом наделяются возможностью управлять поведением других?
Здесь с ответом поможет Бурдье. Он считает, что
массы принимают своих начальников и начинают им
подчиняться не на уровне сознательного соглашения, а
на уровне принятия обыденных форм повседневной жизни. Подчинение государственной власти поэтому не является следствием открыто или имплицитно выраженного согласия, данного тем или иным гражданином легитимному правительству в ситуации первоначального общественного договора. Скорее, это подчинение всему ходу повседневной жизни, а вместе с ней и тем порожденным государством категориям, которые эту жизнь структурируют. Государственные чиновники производят для нас перечни профессий и квалификаций, академических званий и названий научных дисциплин, дают юридическую квалификацию наших действий и даже дарят нам классификацию памятных исторических событий, зафиксированных в череде официальных праздников. Люди не замечают сконструированный характер социального универсума, поскольку они вырастают в мире, уже упорядоченном в соответствии, например, с принципом легитимной значимости нуклеарной семьи (а не родоплеменных связей, как это могло бы быть), забывая о том, что в определенный исторический момент в результате государственного решения именно нуклеарная семья, а не род или другая форма организации воспроизводства людей была принята за единицу юридических обязательств и стала категорией многих официальных классификаций. Более или менее случайный исторический выбор, сертифицированный «государством», произвел ту категорию, с помощью которой мы теперь конструируем нашу нормальную повседневную реальность».
Олег Хархордин, «Основные понятия российской политики»
<...>
Как получается, что некоторые люди начинают не просто рассматриваться как индивиды, а признаваться в качестве государственных служащих и таким образом наделяются возможностью управлять поведением других?
Здесь с ответом поможет Бурдье. Он считает, что
массы принимают своих начальников и начинают им
подчиняться не на уровне сознательного соглашения, а
на уровне принятия обыденных форм повседневной жизни. Подчинение государственной власти поэтому не является следствием открыто или имплицитно выраженного согласия, данного тем или иным гражданином легитимному правительству в ситуации первоначального общественного договора. Скорее, это подчинение всему ходу повседневной жизни, а вместе с ней и тем порожденным государством категориям, которые эту жизнь структурируют. Государственные чиновники производят для нас перечни профессий и квалификаций, академических званий и названий научных дисциплин, дают юридическую квалификацию наших действий и даже дарят нам классификацию памятных исторических событий, зафиксированных в череде официальных праздников. Люди не замечают сконструированный характер социального универсума, поскольку они вырастают в мире, уже упорядоченном в соответствии, например, с принципом легитимной значимости нуклеарной семьи (а не родоплеменных связей, как это могло бы быть), забывая о том, что в определенный исторический момент в результате государственного решения именно нуклеарная семья, а не род или другая форма организации воспроизводства людей была принята за единицу юридических обязательств и стала категорией многих официальных классификаций. Более или менее случайный исторический выбор, сертифицированный «государством», произвел ту категорию, с помощью которой мы теперь конструируем нашу нормальную повседневную реальность».
Олег Хархордин, «Основные понятия российской политики»
❤7
Абсолютная и некритическая догматическая вера в Бога или Науку: найдите десять отличий
(1/3) В пару к этому посту хотела написать об изменениях. А именно: когда мы решаем, что вот какая-нибудь цель — это действительно наша цель, составляем какой-то планчик движения к этой цели и начинаем по нему двигаться, мы…меняемся. И вполне вероятно, к цели мы придем уже какими-нибудь новыми собой. «Ящик водки и всех обратно», точнее, «я с миллионом долларов в центре Парижа» — так уже не получится. Это будет какая-то другая «я».
Это не всегда приятное понимание. Но есть две поддерживающие меня идеи — одна из #коучинг #консультирование, другая из #буддизм, strangely enough.
#буддизм Одна из трех непреложных истин о нашей жизни — непостоянство всего, что нас окружает, и нас самих. Мы стремимся к постоянству и определенности, устойчивости и предсказуемости, но это — источник страдания, потому что природа мира зыбкая и текучая, а мы ей сопротивляемся. Мы хотим, чтобы наша жизнь была безопасной и комфортной, но мы — часть динамической системы, в которой все постоянно меняется без нашего контроля. Мы хотим найти тот способ поведения, который принесет нам стабильность, но все часто идет совсем не так, как мы ожидали.
Решение, которое предлагает буддизм: на самом деле, попуститься. Принять эту реальность такой, какая она есть: переменчивой, и себя таким, какой я есть: переменчивым. Наблюдать с интересом, а не со страхом и нервозным стремлением Все Контролировать. Видеть все, что происходит, хорошее и плохое, и без привязанности, предвзятости и оценивания. Не сопротивляться неопределенности, не искать Единственный Правильный Путь, который принесет постоянное ощущение стабильности и комфорта. Здесь, конечно, следует вопрос: как не сойти с ума? На этот вопрос буддизм, в общем, и отвечает: практиками, этическими принципами, рассуждениями и намерениями. Полностью отпустить и не сопротивляться переменам — это просветление, пробуждение нашей истинной природы, или, иначе говоря, свобода.
#коучинг Одна из предпосылок коучинга как метода — все меняется и мы меняемся, и эти изменения будут происходить всегда. Нет смысла им противиться, так как они неизбежны. Более того: до определенной степени нет смысла ставить себе задачу «измениться», так как это уже происходит — вопрос в том, что если нам кажется, что мы не меняемся, не сопротивляемся ли мы чему-либо или не скрываем от себя ли мы что-то? Вопрос один (и он в коучинге формулируется): в каком направлении мы меняемся и как мы можем направить эти изменения так, как нам кажется правильным, более подходящим для себя? Понятно, что на деле это далеко не всегда возможно, но такой взгляд позволяет нам занять агентную, субъектную позицию, где от нас как бы что-то зависит — как минимум, мы можем замечать, что с нами происходит, и не сопротивляться этому.
Звучит тоже до определенной степени невротично, особенно если вспомнить предыдущий абзац — где от контроля надо отказаться. Тут, на мой взгляд, на сцену цыганочкой выходит принцип принятия себя (чтоб ему пусто было).
Это не всегда приятное понимание. Но есть две поддерживающие меня идеи — одна из #коучинг #консультирование, другая из #буддизм, strangely enough.
#буддизм Одна из трех непреложных истин о нашей жизни — непостоянство всего, что нас окружает, и нас самих. Мы стремимся к постоянству и определенности, устойчивости и предсказуемости, но это — источник страдания, потому что природа мира зыбкая и текучая, а мы ей сопротивляемся. Мы хотим, чтобы наша жизнь была безопасной и комфортной, но мы — часть динамической системы, в которой все постоянно меняется без нашего контроля. Мы хотим найти тот способ поведения, который принесет нам стабильность, но все часто идет совсем не так, как мы ожидали.
Решение, которое предлагает буддизм: на самом деле, попуститься. Принять эту реальность такой, какая она есть: переменчивой, и себя таким, какой я есть: переменчивым. Наблюдать с интересом, а не со страхом и нервозным стремлением Все Контролировать. Видеть все, что происходит, хорошее и плохое, и без привязанности, предвзятости и оценивания. Не сопротивляться неопределенности, не искать Единственный Правильный Путь, который принесет постоянное ощущение стабильности и комфорта. Здесь, конечно, следует вопрос: как не сойти с ума? На этот вопрос буддизм, в общем, и отвечает: практиками, этическими принципами, рассуждениями и намерениями. Полностью отпустить и не сопротивляться переменам — это просветление, пробуждение нашей истинной природы, или, иначе говоря, свобода.
#коучинг Одна из предпосылок коучинга как метода — все меняется и мы меняемся, и эти изменения будут происходить всегда. Нет смысла им противиться, так как они неизбежны. Более того: до определенной степени нет смысла ставить себе задачу «измениться», так как это уже происходит — вопрос в том, что если нам кажется, что мы не меняемся, не сопротивляемся ли мы чему-либо или не скрываем от себя ли мы что-то? Вопрос один (и он в коучинге формулируется): в каком направлении мы меняемся и как мы можем направить эти изменения так, как нам кажется правильным, более подходящим для себя? Понятно, что на деле это далеко не всегда возможно, но такой взгляд позволяет нам занять агентную, субъектную позицию, где от нас как бы что-то зависит — как минимум, мы можем замечать, что с нами происходит, и не сопротивляться этому.
Звучит тоже до определенной степени невротично, особенно если вспомнить предыдущий абзац — где от контроля надо отказаться. Тут, на мой взгляд, на сцену цыганочкой выходит принцип принятия себя (чтоб ему пусто было).
❤12
(2/3) Изменения происходят, когда мы принимаем то, что уже есть. Да, со всеми косяками, со всеми недостаточностями, нехваточками и «да это ж не соответствует идеальной картинке» и «можно лучше». Нельзя выйти из зоны комфорта, если ты не знаешь, где находится твоя зона комфорта, из чего она состоит, что в ней должно быть, а чего в ней быть точно не должно. И это не рациональное упражнение (к сожалению): нет смысла воспроизводить в своей голове некую абстрактную комфортную конструкцию и вылетать из неё, как пробка (мол, ну все понятно же!). В зоне комфорта нужно побыть, чтобы понять что она реально твоя; реально комфортная; и да, твоя зона комфорта именно такова. Она может быть не такой, как у мамы и сына маминой подруги, она может не соответствовать твоим собственным представлениям о своем комфорте: это процесс экспериментов, ошибок, чувствования и принятия (бесит). На этом этапе приходится столкнуться со своими убеждениями (относительно себя), своими привычками (они упрямые), своими и чужими ожиданиями (эти вообще хуже тли). Как мне нравится отдыхать, что мне нравится носить, как мне нравится проводить время, какой график мне нравится жить и на какой стороне кровати спать. Мы не замечаем десятки и сотни компромиссов, на которые идем каждый божий день: потому что друзья, родители, коллеги, партнер, погода, умные люди в интернете, моральные нормативы, рационализм, нежелание идти на конфликты, собственная картинка в голове. Из этой позиции сложно меняться как-то субъектно: как жизнь с нами «происходит», так и изменения будут тащить куда-то, куда тащит тех людей, которых мы считаем своей референтной группой, с которыми мы себя соотносим.
Буддизм в этом плане помогает (мне): в нем цепляться за разумно и последовательно сформулированное «я» бессмысленно. Бессмысленно что-то о себе думать и за это держаться, потому что любое поползновение в сторону нашей уверенности о себе мы будем воспринимать как угрозу и биться до последней нервной клетки. Это ложная защита. Отказаться от неё неприятно (а как иначе-то), но нужно, если мы хотим получить шанс меняться как-то более соответственно именно нашим склонностям и намерениям, а не как нас унесет река общественных ожиданий, вбитых в голову конструкций и политического режима.
Буддизм в этом плане помогает (мне): в нем цепляться за разумно и последовательно сформулированное «я» бессмысленно. Бессмысленно что-то о себе думать и за это держаться, потому что любое поползновение в сторону нашей уверенности о себе мы будем воспринимать как угрозу и биться до последней нервной клетки. Это ложная защита. Отказаться от неё неприятно (а как иначе-то), но нужно, если мы хотим получить шанс меняться как-то более соответственно именно нашим склонностям и намерениям, а не как нас унесет река общественных ожиданий, вбитых в голову конструкций и политического режима.
❤11👍1
(3/3) И это повод для праздника!
«Часто первое же дуновение в сторону жесткой самоидентификации ввергает нас в кризис. Когда жизнь распадается на части, как это было со мной, когда я приехала в аббатство Гампо, то чувствуешь себя так, будто весь мир рушится. Но на самом деле рушится ваша самоидентификация. Как говорил нам Чогьям Трунгпа, ”это повод для праздника”».
Пема Чодрон
«Часто первое же дуновение в сторону жесткой самоидентификации ввергает нас в кризис. Когда жизнь распадается на части, как это было со мной, когда я приехала в аббатство Гампо, то чувствуешь себя так, будто весь мир рушится. Но на самом деле рушится ваша самоидентификация. Как говорил нам Чогьям Трунгпа, ”это повод для праздника”».
Пема Чодрон
🔥13
В общем, история про #коучинг #консультирование следующая. Я практикующий коуч, обучавшийся по стандартам ICF (это такая международная организация, которая формулирует коучинговые стандарты и компетенции). Практикую 6+ месяцев. В прошлом занималась маркетингом и контентом (РБК, No Kidding Press). Сейчас учусь на политического философа в Шанинке, прохожу годовую программу личностного развития «Эволюция» (та, которая new), пишу книжку и вообще учусь жить жизнь так, как будто бы она и правда моя. 2+ лет в персональной терапии.
Коучинг — это, по сути, сфокусированная беседа, построенная вокруг задачи, цели или желания, решение или путь к которым по каким-то причинам не находится (или находится, но не нравится). Это не менторинг и не «лайф-коучинг»: я не даю советов и не высказываю мнение, цель этой работы — чтобы вы сами нашли комфортное и подходящее вам решение своих задач (со сторонней поддержкой и вниманием). В коучинг стоит приходить в более-менее ресурсном состоянии — чтобы ставить цели, планировать свои шаги и разбираться с ограничениями нужны силы. А вот четко сформулированный запрос необязателен: его можем обсудить и сформулировать вместе.
Темы, с которыми мы можем поработать (примерный список, но не полный):
1. Ограничивающие убеждения: разбираем личные, карьерные или этические «так правильно», «так нужно» и «я должен/должна» и смотрим, мешают ли они жить;
2. Кризисы самоопределения: карьерные и личные. Например, почему хочется что-то поменять, но ничего не делается, нет времени, нет сил, нет мотивации;
3. Желания и ценности, поиск своего смысла в жизни и карьере и своих опор в принятии решений;
4. Адаптация к новым реальностям: как искать источники сил, если старые отвалились, и не терять фокус внимания на том, что важно.
«Технические» подробности описаны здесь.
Если вдруг что-то из этого вам откликнулось — пишите, обсудим: @humanaviator
Коучинг — это, по сути, сфокусированная беседа, построенная вокруг задачи, цели или желания, решение или путь к которым по каким-то причинам не находится (или находится, но не нравится). Это не менторинг и не «лайф-коучинг»: я не даю советов и не высказываю мнение, цель этой работы — чтобы вы сами нашли комфортное и подходящее вам решение своих задач (со сторонней поддержкой и вниманием). В коучинг стоит приходить в более-менее ресурсном состоянии — чтобы ставить цели, планировать свои шаги и разбираться с ограничениями нужны силы. А вот четко сформулированный запрос необязателен: его можем обсудить и сформулировать вместе.
Темы, с которыми мы можем поработать (примерный список, но не полный):
1. Ограничивающие убеждения: разбираем личные, карьерные или этические «так правильно», «так нужно» и «я должен/должна» и смотрим, мешают ли они жить;
2. Кризисы самоопределения: карьерные и личные. Например, почему хочется что-то поменять, но ничего не делается, нет времени, нет сил, нет мотивации;
3. Желания и ценности, поиск своего смысла в жизни и карьере и своих опор в принятии решений;
4. Адаптация к новым реальностям: как искать источники сил, если старые отвалились, и не терять фокус внимания на том, что важно.
«Технические» подробности описаны здесь.
Если вдруг что-то из этого вам откликнулось — пишите, обсудим: @humanaviator
❤6🔥5
Совет, подходящий и для политики, и для «персонального развития» 👾
(Она проснулась утром в воскресенье и первым делом репостнула Жижека)
(Она проснулась утром в воскресенье и первым делом репостнула Жижека)
Forwarded from Radio Ljubljana 🍌
☭☭☭ Славой Жижек:
В то время как традиционный марксизм предписывал нам действовать, чтобы вызвать необходимое (коммунизм), Адорно и Хоркхаймер проецировали на текущую ситуацию окончательный катастрофический финал (явление «управляемого общества» тотальной технологической манипуляции), чтобы добиться от нас действий против этого исхода в нашем настоящем.
По иронии судьбы, не относится ли то же самое к самому поражению коммунизма в 1990 году? С сегодняшней точки зрения легко высмеивать «пессимистов» от правых до левых, от Александра Солженицына до Корнелиуса Касториадиса, которые сожалели о слепоте и компромиссах демократического Запада, об отсутствии у него этико-политической силы и мужества в борьбе с коммунистической угрозой. Они предсказывали, что холодная война уже проиграна Западом, что коммунистический блок уже выиграл ее, что крах Запада неизбежен. Но именно их позиция больше всего способствовала краху коммунизма...
Таким образом, следует перевернуть традиционное представление, согласно которому, если мы вовлечены в настоящий исторический процесс, мы воспринимаем его как наполненный возможностями, а себя как агентов, свободных выбирать между ними, в то время как с ретроактивной точки зрения тот же самый процесс кажется полностью предзаданным и необходимым. Наоборот, именно активные в настоящем агенты воспринимают себя пойманными в сети судьбы, в то время как задним числом, с точки зрения более позднего наблюдения, мы можем различить альтернативы в прошлом, возможности того, что события пойдут другим путем.
Иными словами, прошлое открыто для переинтерпретаций задним числом, а будущее закрыто, поскольку мы живем в детерминистской вселенной. Это не означает, что мы не можем изменить будущее; это просто означает, что для того, чтобы изменить наше будущее, мы должны сначала (не «понять», а) изменить наше прошлое, переинтерпретировать его таким образом, чтобы оно открывалось навстречу другому будущему, отличному от того, которое подразумевает преобладающий образ прошлого.
В то время как традиционный марксизм предписывал нам действовать, чтобы вызвать необходимое (коммунизм), Адорно и Хоркхаймер проецировали на текущую ситуацию окончательный катастрофический финал (явление «управляемого общества» тотальной технологической манипуляции), чтобы добиться от нас действий против этого исхода в нашем настоящем.
По иронии судьбы, не относится ли то же самое к самому поражению коммунизма в 1990 году? С сегодняшней точки зрения легко высмеивать «пессимистов» от правых до левых, от Александра Солженицына до Корнелиуса Касториадиса, которые сожалели о слепоте и компромиссах демократического Запада, об отсутствии у него этико-политической силы и мужества в борьбе с коммунистической угрозой. Они предсказывали, что холодная война уже проиграна Западом, что коммунистический блок уже выиграл ее, что крах Запада неизбежен. Но именно их позиция больше всего способствовала краху коммунизма...
Таким образом, следует перевернуть традиционное представление, согласно которому, если мы вовлечены в настоящий исторический процесс, мы воспринимаем его как наполненный возможностями, а себя как агентов, свободных выбирать между ними, в то время как с ретроактивной точки зрения тот же самый процесс кажется полностью предзаданным и необходимым. Наоборот, именно активные в настоящем агенты воспринимают себя пойманными в сети судьбы, в то время как задним числом, с точки зрения более позднего наблюдения, мы можем различить альтернативы в прошлом, возможности того, что события пойдут другим путем.
Иными словами, прошлое открыто для переинтерпретаций задним числом, а будущее закрыто, поскольку мы живем в детерминистской вселенной. Это не означает, что мы не можем изменить будущее; это просто означает, что для того, чтобы изменить наше будущее, мы должны сначала (не «понять», а) изменить наше прошлое, переинтерпретировать его таким образом, чтобы оно открывалось навстречу другому будущему, отличному от того, которое подразумевает преобладающий образ прошлого.
❤8
Forwarded from драконьи майсы (Симха Борман)
Закрывается проект "Всенаука". Хорошие бесплатные научно-популярные книги можно до 15 февраля скачать тут. Я уже скачал одним архивом, и вам рекомендую.
Я открыл возможность репостов с моего канала. Пожалуйста, поделитесь этим постом с теми, кому может быть важно получить книги бесплатно.
Я открыл возможность репостов с моего канала. Пожалуйста, поделитесь этим постом с теми, кому может быть важно получить книги бесплатно.
❤7🤯5
Говорят, тут Юдина раскритиковали за а) за мягкую рекомендацию почитать Ленина как поставщика отборной анти-имперской, негосударственной и свободолюбивой мысли и б) веру в Россию и якобы наивное нежелание отменять всю страну, людей, культуру, традицию интеллектуальной мысли и язык целиком.
Что тут скажешь, держи, мужик,изоленту Ленина:
«Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! Либеральные и радикальные министры Англии, бездна «передовых» публицистов Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции), тьма казённых, кадетских и прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и «марксистских») писак России — все на тысячи ладов воспевают свободу и независимость «родины», величие принципа национальной самостоятельности. <...> Перед нами очень широкое и очень глубокое идейное течение, корни которого весьма прочно связаны с интересами господ помещиков и капиталистов великодержавных наций. На пропаганду выгодных этим классам идей затрачиваются десятки и сотни миллионов в год <...>.
Нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса — особенно в такой стране, которую справедливо называют «тюрьмой народов» — в такое время, когда именно на дальнем востоке Европы и в Азии капитализм будит к жизни и к сознанию целый ряд «новых», больших и малых нации; в такой момент, когда царская монархия поставила под ружьё миллионы великороссов и «инородцев», чтобы «решить» целый ряд национальных вопросов сообразно интересам совета объединённого дворянства <...>.
Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы её трудящиеся массы (т.-е. 9/10 её населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнёту и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов <...>.
Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — всё рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда её не было. Теперь её мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами.
Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и своё рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает своё рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».
Впервые напечатано 12 декабря 1914 г. в «Социал-Демократе» №35.
Что тут скажешь, держи, мужик,
«Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! Либеральные и радикальные министры Англии, бездна «передовых» публицистов Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции), тьма казённых, кадетских и прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и «марксистских») писак России — все на тысячи ладов воспевают свободу и независимость «родины», величие принципа национальной самостоятельности. <...> Перед нами очень широкое и очень глубокое идейное течение, корни которого весьма прочно связаны с интересами господ помещиков и капиталистов великодержавных наций. На пропаганду выгодных этим классам идей затрачиваются десятки и сотни миллионов в год <...>.
Нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса — особенно в такой стране, которую справедливо называют «тюрьмой народов» — в такое время, когда именно на дальнем востоке Европы и в Азии капитализм будит к жизни и к сознанию целый ряд «новых», больших и малых нации; в такой момент, когда царская монархия поставила под ружьё миллионы великороссов и «инородцев», чтобы «решить» целый ряд национальных вопросов сообразно интересам совета объединённого дворянства <...>.
Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы её трудящиеся массы (т.-е. 9/10 её населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнёту и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов <...>.
Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — всё рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда её не было. Теперь её мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами.
Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и своё рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает своё рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».
Впервые напечатано 12 декабря 1914 г. в «Социал-Демократе» №35.
❤25🔥10
Стараюсь не репостить срачи и людское безумие, поэтому вот репост картины с собачкой.
Forwarded from Состоявшиеся художники обсуждают хорошее искусство (Anton Semakin)
Charles van den Eycken (1859-1923)
«The Artist's Dog»
«The Artist's Dog»
❤30
Неделю назад я…начала писать этот пост. Так вот, две недели назад (🤡) я сдала четвертое эссе (из восьмииии) в Шанинке. С этим текстом у меня было связано меньше всего эмоционального и ментального напряжения, и причина, на самом деле, одна — я четко понимала, что я делаю. А знала я это потому, что до начала работы полторы недели переписывалась с преподавателем курса о своей теме. Не из-за большой любви или интереса, а потому что он постоянно спрашивал: а почему вы так думаете? а в чем тут заключается проблема, которую вы хотите решить? а что именно вы хотите этим сказать? а как вы это покажете? а как вы поймете, что ответили на свой вопрос? У меня часто не было ответов на эти вопросы, и мы заходили на новый круг обсуждений.
Надо ли говорить, что все полторы недели я бесилась, заламывала руки и говорила ГОСПОДИ Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУУУУУ. Но потом в какой-то момент мы четко сформулировали тему, я села и за недельку все сделала.
С прошлыми текстами было не так. У меня было примерное представление о теме и огромное напряжение, связанное с работой над текстом: мне не хотелось ничего делать, мне было все непонятно, сложно и попросту тоскливо.
В общем, как всегда: четкое понимание задачи и её границ упрощает работу. Если понимать, что именно ты делаешь и почему, сопротивление слабеет. Но я думаю даже не об этом, а о вопросах — и том, почему на них частенько бывает так сложно отвечать. #коучинг как метод — это, по сути, просто вопросы, вопросы с разной структурой, отдельные вопросы или складывающиеся в какие-то упражнения.
Во-первых, вопросы, заданные другими людьми и не из нашей «парадигмы мышления» часто раздражают. Они помещают нас в пространство напряжения, где у нас могут быть «заполированы» какие-то вещи, которые мы не хотим или не любим видеть (как я, например, не люблю видеть, что я не всегда могу с пол-пинка сделать интеллектуальную работу на отлично — и моя эпопея с обсуждением темы это очень хорошо подсветила). Конечно, совсем другая тема — что мы с этим ощущением привыкли делать: радоваться ему (у! развитие! придумаю тему получше! напишу что-то крутое!), защищаться от неопределённости (сам дурак), злиться и грустить (да пошло оно все, все равно мне не хотелось этим заниматься).
Во-вторых, ответ «не знаю» — отличный. Если мы понимаем, что не знаем ответ на какой-то вопрос, это повод поисследовать (ну фу, да, и все-таки). Когда мы честно говорим «я не знаю», мы делаем очень много — например, отказываемся от воспроизведения заготовленных или выученных ответов, позволяем чему-то своему появиться и занять это место. Считается, что именно после появления в нашей жизни вопросов «я не знаю» (я не знаю, как я хочу, чтобы было; я не знаю, как правильно; я не знаю, что работает, а что — нет) начинается наш постконвенциональный этап развития: мы видим, что привычные модели мышления разрушаются или перестают работать, и не пытаемся загнать их обратно в рамки понятного. (Если что, дальше понятнее не становится: по идее, дальше просто становится проще жить, не зная, как и что — правильно. В теории).
В-третьих, иногда может быть полезно задавать себе один и тот же вопрос.
Например:
— Я хочу заниматься наукой.
— А почему это важно?
— Потому что интересные книжки, интересные люди и объяснение мира.
— А почему это важно?
— Потому что объяснение мира делает жизнь менее неопределенной.
— А почему это важно?
НУ И ТАК ДАЛЕЕ.
Вопрос может быть любым (почему важно написать эссе о том, что stasis может быть моделью самозащиты демократии? почему важно заниматься спортом? почему важно получить повышение?), как и сфера применения, делать это можно самому или в обнимку с помогающим практиком (например, с коучем! хаха). Но отвечая раз за разом, мы можем сделать эту цель действительно, истинно своей, укорененной в свои ценности и убеждения.
В общем, такой у меня сейчас период очарованности силой вопросов и пространств напряжения, которые они создают.
Надо ли говорить, что все полторы недели я бесилась, заламывала руки и говорила ГОСПОДИ Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУУУУУ. Но потом в какой-то момент мы четко сформулировали тему, я села и за недельку все сделала.
С прошлыми текстами было не так. У меня было примерное представление о теме и огромное напряжение, связанное с работой над текстом: мне не хотелось ничего делать, мне было все непонятно, сложно и попросту тоскливо.
В общем, как всегда: четкое понимание задачи и её границ упрощает работу. Если понимать, что именно ты делаешь и почему, сопротивление слабеет. Но я думаю даже не об этом, а о вопросах — и том, почему на них частенько бывает так сложно отвечать. #коучинг как метод — это, по сути, просто вопросы, вопросы с разной структурой, отдельные вопросы или складывающиеся в какие-то упражнения.
Во-первых, вопросы, заданные другими людьми и не из нашей «парадигмы мышления» часто раздражают. Они помещают нас в пространство напряжения, где у нас могут быть «заполированы» какие-то вещи, которые мы не хотим или не любим видеть (как я, например, не люблю видеть, что я не всегда могу с пол-пинка сделать интеллектуальную работу на отлично — и моя эпопея с обсуждением темы это очень хорошо подсветила). Конечно, совсем другая тема — что мы с этим ощущением привыкли делать: радоваться ему (у! развитие! придумаю тему получше! напишу что-то крутое!), защищаться от неопределённости (сам дурак), злиться и грустить (да пошло оно все, все равно мне не хотелось этим заниматься).
Во-вторых, ответ «не знаю» — отличный. Если мы понимаем, что не знаем ответ на какой-то вопрос, это повод поисследовать (ну фу, да, и все-таки). Когда мы честно говорим «я не знаю», мы делаем очень много — например, отказываемся от воспроизведения заготовленных или выученных ответов, позволяем чему-то своему появиться и занять это место. Считается, что именно после появления в нашей жизни вопросов «я не знаю» (я не знаю, как я хочу, чтобы было; я не знаю, как правильно; я не знаю, что работает, а что — нет) начинается наш постконвенциональный этап развития: мы видим, что привычные модели мышления разрушаются или перестают работать, и не пытаемся загнать их обратно в рамки понятного. (Если что, дальше понятнее не становится: по идее, дальше просто становится проще жить, не зная, как и что — правильно. В теории).
В-третьих, иногда может быть полезно задавать себе один и тот же вопрос.
Например:
— Я хочу заниматься наукой.
— А почему это важно?
— Потому что интересные книжки, интересные люди и объяснение мира.
— А почему это важно?
— Потому что объяснение мира делает жизнь менее неопределенной.
— А почему это важно?
НУ И ТАК ДАЛЕЕ.
Вопрос может быть любым (почему важно написать эссе о том, что stasis может быть моделью самозащиты демократии? почему важно заниматься спортом? почему важно получить повышение?), как и сфера применения, делать это можно самому или в обнимку с помогающим практиком (например, с коучем! хаха). Но отвечая раз за разом, мы можем сделать эту цель действительно, истинно своей, укорененной в свои ценности и убеждения.
В общем, такой у меня сейчас период очарованности силой вопросов и пространств напряжения, которые они создают.
🔥19❤7