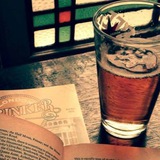«Обратимся за тем же к Аристотелю. Он пишет: "...достойный малого благоразумен, но не величав, ведь величавость состоит в величии...", а величавый — это тот, "кто считает себя достойным великого, будучи этого достойным". Но осознание своей соизмеримости великому ведет к тому, что величавый "ничего не признает великим". Ему мало что важно, и он предпочитает владеть прекрасными и невыгодными вещами, будучи самодостаточным, ведь праздность не нуждается в выгодном и полезном, но тяготеет к прекрасному. Даже честь — величайшее из внешних благ — не воспринимается величавым как нечто величайшее». (О.П. Зубец, Праздность и лень, Этическая мысль | Ethical Thought: № 3 (2002)).
Так-то вот! Не лень, а vita contemplativa (единственная форма истинной свободы по Аристотелю — свобода ничего не делать, не приносить пользы, никак не зависеть от внешнего мира, и особенно никак от него не зависеть в определении собственной ценности). Я — не есть нечто внешнее, чем нужно «правильно распорядиться», чем нужно нанести пользу, чье время нужно правильно заполнить. Свободный человек стремится в первую очередь к покою души, подлинному умиротворению, отсутствию тщеславия и тяги к любой форме власти.
Короче, мы или мы?
Так-то вот! Не лень, а vita contemplativa (единственная форма истинной свободы по Аристотелю — свобода ничего не делать, не приносить пользы, никак не зависеть от внешнего мира, и особенно никак от него не зависеть в определении собственной ценности). Я — не есть нечто внешнее, чем нужно «правильно распорядиться», чем нужно нанести пользу, чье время нужно правильно заполнить. Свободный человек стремится в первую очередь к покою души, подлинному умиротворению, отсутствию тщеславия и тяги к любой форме власти.
Короче, мы или мы?
❤28🐳2💯2👍1
Забавная (ну, так) колонка о том, как ученый, из-за которого мы высаживаем деревья за каждый полет на самолете, теперь пытается остановить высаживание деревьев за каждый полет на самолете.
Бывший chief scientific adviser проекта «Триллион деревьев» ООН эколог Томас Кроуфер начал просить министров охраны окружающей среды по всему миру прекратить сажать так много деревьев.
Почему? Оказалось, что вновь созданные леса не так уж здорово поглощают углерод, как ожидалось, а еще они могут быть вредны для биоразнообразия. Но то, что действительно наносит ущерб планете — так это, конечно, люди-на-блюде, которые решили, что посадка деревьев — классная индульгенция, и можно просто продолжать работать, как обычно, и не сокращать выбросы всего того, что мы сейчас пытаемся сократить. Иными словами, зачем реже летать на самолете, если можно просто посадить пару деревьев с помощью очень удачно существующих только для этого фондов? (Хотя я, конечно, против того, чтобы перекладывать коллективную ответственность больших корпораций на частную жизнь индивидов — но та же логика работает и на уровне компаний).
Ну, короче, сюрприз.
Но я думаю, что эта история, конечно, отлично показывает системную проблему связи науки и, собственно, коллективной практики в том, что касается проектов планетарного масштаба.
Итак, что мы имеем: в 2019 году лаборатория Кроуфера выпускает статью, которая говорит, что на планете есть место для дополнительных 1,2 трлн деревьев, которые могут поглотить две трети от всего объема углерода, поставляемого человеками в атмосферу. Кроуфер называет эту меру «самым эффективным решением климатического кризиса» и ездит по миру с интервью. Ученые, которые говорят, что все не так-то просто, обтекают в уголке, корпорации бросаются на это простое решение, и вместо того, чтобы заменять устаревшее оборудование или платить огромные деньги за переработку отходов, просто. Сажают. Деревья. В 2023 году Кроуфер выпускает куда более нюансированное исследование, где говорит, что сохранение существующих лесов куда эффективнее, чем высадка новых, и выступает за борьбу с гринвошингом и за «распределение богатств между коренным населением, фермерами и общинами, живущими в условиях биоразнообразия». После него на COP28 выступает Мариам Альмхейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, которая обещает высадить 100 млн манговых деревьев к 2030 году (пока их нефтяная компания расширяется быстрее, чем все остальные нефтяные компании мира). Норвегия с ампломбом анонсирует пожертвование в 50 млн долларов в фонд восстановления лесов Бразилии, но не говорит о том, что планирует потратить 18 млрд долларов на нефтяные и газовые проекты (в том числе в государственной Equinor).
Так в чем эта системная проблема? В том, что в теме экологии и эко-science есть своя форма Valley of Death (так называется временной разрыв между медицинскими исследованиями и моментом, когда какое-то новое лечение или таблетка становятся доступны людям — у нас уже есть решение, но мы пока его не выпустили, поэтому какое-то время проведем в долине смерти). Только это разрыв между словами и делом: а именно, между ценностным сообщением (конечно, мы хотим спасти планету!) и практическим, повседневным действием (но мне нужно бюджетик закрыть и бонус получить, на перестройку всего многомиллиардного бизнеса не хватит). Проблема еще и в том, что это не индивидуальное действие (я хочу быть спортивным котиком, но каждый день делаю выбор в пользу полежать — ну, эту проблему можно решить на индивидуальном уровне), а коллективное — воли одного, двух, десяти человек тупо недостаточно. Важно и то, что в этой дискуссии происходит подмена объекта спасения: планете-то поебать. Человечеству два миллиона лет в обед, и в контексте всей истории нашего камушка мы — просто секундочка, причем далеко не самая интересная. Мы не можем планету спасти или разрушить, да это и неважно — но мы можем спасти или разрушить пригодную для нашей комфортной жизни экосистему. И то, что мы не можем договориться, чтобы спасти, на деле, самих себя — конечно, максимально показательно.
Бывший chief scientific adviser проекта «Триллион деревьев» ООН эколог Томас Кроуфер начал просить министров охраны окружающей среды по всему миру прекратить сажать так много деревьев.
Почему? Оказалось, что вновь созданные леса не так уж здорово поглощают углерод, как ожидалось, а еще они могут быть вредны для биоразнообразия. Но то, что действительно наносит ущерб планете — так это, конечно, люди-на-блюде, которые решили, что посадка деревьев — классная индульгенция, и можно просто продолжать работать, как обычно, и не сокращать выбросы всего того, что мы сейчас пытаемся сократить. Иными словами, зачем реже летать на самолете, если можно просто посадить пару деревьев с помощью очень удачно существующих только для этого фондов? (Хотя я, конечно, против того, чтобы перекладывать коллективную ответственность больших корпораций на частную жизнь индивидов — но та же логика работает и на уровне компаний).
Ну, короче, сюрприз.
Но я думаю, что эта история, конечно, отлично показывает системную проблему связи науки и, собственно, коллективной практики в том, что касается проектов планетарного масштаба.
Итак, что мы имеем: в 2019 году лаборатория Кроуфера выпускает статью, которая говорит, что на планете есть место для дополнительных 1,2 трлн деревьев, которые могут поглотить две трети от всего объема углерода, поставляемого человеками в атмосферу. Кроуфер называет эту меру «самым эффективным решением климатического кризиса» и ездит по миру с интервью. Ученые, которые говорят, что все не так-то просто, обтекают в уголке, корпорации бросаются на это простое решение, и вместо того, чтобы заменять устаревшее оборудование или платить огромные деньги за переработку отходов, просто. Сажают. Деревья. В 2023 году Кроуфер выпускает куда более нюансированное исследование, где говорит, что сохранение существующих лесов куда эффективнее, чем высадка новых, и выступает за борьбу с гринвошингом и за «распределение богатств между коренным населением, фермерами и общинами, живущими в условиях биоразнообразия». После него на COP28 выступает Мариам Альмхейри, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, которая обещает высадить 100 млн манговых деревьев к 2030 году (пока их нефтяная компания расширяется быстрее, чем все остальные нефтяные компании мира). Норвегия с ампломбом анонсирует пожертвование в 50 млн долларов в фонд восстановления лесов Бразилии, но не говорит о том, что планирует потратить 18 млрд долларов на нефтяные и газовые проекты (в том числе в государственной Equinor).
Так в чем эта системная проблема? В том, что в теме экологии и эко-science есть своя форма Valley of Death (так называется временной разрыв между медицинскими исследованиями и моментом, когда какое-то новое лечение или таблетка становятся доступны людям — у нас уже есть решение, но мы пока его не выпустили, поэтому какое-то время проведем в долине смерти). Только это разрыв между словами и делом: а именно, между ценностным сообщением (конечно, мы хотим спасти планету!) и практическим, повседневным действием (но мне нужно бюджетик закрыть и бонус получить, на перестройку всего многомиллиардного бизнеса не хватит). Проблема еще и в том, что это не индивидуальное действие (я хочу быть спортивным котиком, но каждый день делаю выбор в пользу полежать — ну, эту проблему можно решить на индивидуальном уровне), а коллективное — воли одного, двух, десяти человек тупо недостаточно. Важно и то, что в этой дискуссии происходит подмена объекта спасения: планете-то поебать. Человечеству два миллиона лет в обед, и в контексте всей истории нашего камушка мы — просто секундочка, причем далеко не самая интересная. Мы не можем планету спасти или разрушить, да это и неважно — но мы можем спасти или разрушить пригодную для нашей комфортной жизни экосистему. И то, что мы не можем договориться, чтобы спасти, на деле, самих себя — конечно, максимально показательно.
WIRED
Stop Planting Trees, Says Guy Who Inspired World to Plant a Trillion Trees
Ecologist Thomas Crowther’s research inspired countless tree-planting campaigns, greenwashing, and attacks from scientists. Now he’s back with a new plan for nature restoration.
🔥27🗿6👍3❤2
Я тут решила поэкспериментировать с занятиями практической философией (надо же как-то использовать ЕГО — магистерский диплом по философии Шанинки). Вещь, кстати, реальная и собирающая сторонников — хотя и со стандартами есть проблемы; но зря нам что ли боженька послал коучинговые стандарты ICF? Не зря.
Что это такое: 1:1 разговор о себе и о волнующих вещах в контексте какой-то философской традиции, школы мысли или языка. Философия разнообразна, и между античными текстами, аналитической философией, философией познания, теориями демократии и прочими, прочими есть пространство для разговора буквально о чем угодно. Философия может предложить модель мышления или языковую рамку для разговора о самых разных, в том числе очень сложных вещах — и помочь бросить вызов собственным ценностям и убеждениям, проверить на прочность свои моральные, этические, политические принципы, испытать свои аргументы и мнения — и, в конечном итоге, утвердиться в своей картине мира или изменить и развить её. Наверное, философия не поставляет Невероятные Инсайты — но она может расширить перспективы и помочь посмотреть на привычные мысли или чувства с новой стороны. Мне кажется, это скорее про принятие и спокойствие, чем про бурную реку трансформаций, but who knows.
Что это не такое: не психотерапия и не коучинг в прямом смысле, и не академические консультации. Я представляю свою роль как в первую очередь собеседника, а не консультанта или эксперта. Иными словами, это видится как разговор двух любопытных людей, которые любят почитать и перетереть за философские вопросы — но с практическим смыслом, с опорой на свою жизнь и опыт. И я постараюсь сблизить философию и реальность — через призму заданной собеседником проблематики.
Как это будет выглядеть: представляется, что для начала мы должны встретиться и поговорить о том, что вас волнует, и попробовать сформулировать на этой основе философский вопрос (или несколько). После этого я предложу почитать что-то (небольшое: главу, статью или кусок текста) вокруг этого вопроса, и постараюсь захватить несколько разных философских подходов к одной теме. После чтения встретимся и обсудим, что надумали: поделимся идеями, покрутим вопрос с разных сторон, поищем пересечения с реальностью.
Что по темам: моя специализация — критическая теория (как сложились нарративы и ценности, которые мы сейчас считаем неоспоримыми) и политическая философия (отношения между индивидом и обществом, государством, политикой, политическими тактиками, действие и изменения, vita activa и vita contemplativa). Но пока кажется, что значительных тематических ограничений нет. Философская рамка предполагает движение от частного к общему: что такое я; что такое смысл жизни; что такое счастье; что такое осмысленная жизнь; что такое выбор; что такое изменения; что такое Я и Другие. Например, если вас волнуют вопросы мотивации, желания и поиска собственных «хочу», мы можем погрузиться в вопросы типа «Что такое свобода», «Что такое желание» или «Что такое счастливая жизнь» — или любой другой, который покажется важным.
Предложенные философские оптики — это не способ установления истины, не авторитетное высказывание и не инструкция к действию — это чужая мысль, которая обычно хорошо аргументирована. Мы же используем её, чтобы потренировать собственное мышление, разобрать свои нормативные позиции и изучить собственную логику.
Если вам такое интересно — пишите @humanaviator.
Ален Бадью, «Истинная жизнь»
Что это такое: 1:1 разговор о себе и о волнующих вещах в контексте какой-то философской традиции, школы мысли или языка. Философия разнообразна, и между античными текстами, аналитической философией, философией познания, теориями демократии и прочими, прочими есть пространство для разговора буквально о чем угодно. Философия может предложить модель мышления или языковую рамку для разговора о самых разных, в том числе очень сложных вещах — и помочь бросить вызов собственным ценностям и убеждениям, проверить на прочность свои моральные, этические, политические принципы, испытать свои аргументы и мнения — и, в конечном итоге, утвердиться в своей картине мира или изменить и развить её. Наверное, философия не поставляет Невероятные Инсайты — но она может расширить перспективы и помочь посмотреть на привычные мысли или чувства с новой стороны. Мне кажется, это скорее про принятие и спокойствие, чем про бурную реку трансформаций, but who knows.
Что это не такое: не психотерапия и не коучинг в прямом смысле, и не академические консультации. Я представляю свою роль как в первую очередь собеседника, а не консультанта или эксперта. Иными словами, это видится как разговор двух любопытных людей, которые любят почитать и перетереть за философские вопросы — но с практическим смыслом, с опорой на свою жизнь и опыт. И я постараюсь сблизить философию и реальность — через призму заданной собеседником проблематики.
Как это будет выглядеть: представляется, что для начала мы должны встретиться и поговорить о том, что вас волнует, и попробовать сформулировать на этой основе философский вопрос (или несколько). После этого я предложу почитать что-то (небольшое: главу, статью или кусок текста) вокруг этого вопроса, и постараюсь захватить несколько разных философских подходов к одной теме. После чтения встретимся и обсудим, что надумали: поделимся идеями, покрутим вопрос с разных сторон, поищем пересечения с реальностью.
Что по темам: моя специализация — критическая теория (как сложились нарративы и ценности, которые мы сейчас считаем неоспоримыми) и политическая философия (отношения между индивидом и обществом, государством, политикой, политическими тактиками, действие и изменения, vita activa и vita contemplativa). Но пока кажется, что значительных тематических ограничений нет. Философская рамка предполагает движение от частного к общему: что такое я; что такое смысл жизни; что такое счастье; что такое осмысленная жизнь; что такое выбор; что такое изменения; что такое Я и Другие. Например, если вас волнуют вопросы мотивации, желания и поиска собственных «хочу», мы можем погрузиться в вопросы типа «Что такое свобода», «Что такое желание» или «Что такое счастливая жизнь» — или любой другой, который покажется важным.
Предложенные философские оптики — это не способ установления истины, не авторитетное высказывание и не инструкция к действию — это чужая мысль, которая обычно хорошо аргументирована. Мы же используем её, чтобы потренировать собственное мышление, разобрать свои нормативные позиции и изучить собственную логику.
Если вам такое интересно — пишите @humanaviator.
Однако начать мне хотелось бы издалека, с довольно известного в истории философии эпизода. Если конкретно, то с Сократа, этого отца всех философов, который был приговорен к смертной казни за «развращение молодежи». Таким образом, официальные власти, впервые столкнувшись с таким явлением, как «философия», облекли её в форму тяжкого обвинения в развращении молодежи. И если придерживаться подобной точки зрения, то я должен заявить прямо: да, моя цель в том и состоит, чтобы развращать молодежь.
Ален Бадью, «Истинная жизнь»
🔥15👍3❤1
Читала с утреца статью о том, как дела у американских новостных медиа (плохо). Массовые увольнения, отсутствие инвестиций и развития традиционных медиа, перетекание рекламных бюджетов и внимания к социальным сетям, стримингам и прочим — а также ожидаемое нежелание техногигантов типа Google и других платить паблишерам и авторам контента за трафик, и тот факт, что даже скорые выборы (традиционно главное событие политического медиаспекталя) не спасают, — все это складывается в достойную пессимизма картину.
Но меня заинтересовала фраза колумнистки Маргарет Салливан, которая очень обеспокоена: «Чтобы функционировать, демократии нужен информированный электорат, и его количество трагически сокращается во многих регионах».
Вообще вопрос о том, нуждается ли электоральная демократия (то есть та, где формы политического участия народа редуцированы до пассивного проставления галки в четко определенных рамках) в политически образованном населении — с точки зрения политической науки совсем неочевидный.
Привычная нам либеральная демократическая теория сказала бы примерно так: нет, ну было бы неплохо, конечно; но ожидать от людей, которые отлично разбираются в собственных областях знания и которые погружены в личные интересы, чтобы они аналогично хорошо разбирались во внешне- и внутриполитических вопросах — абсурдно. Иными словами, мы всегда будем иметь дело с людьми, которые могут быть очень умными, скажем, в медицине или биохимии, но которые превращаются в детей, когда перед ними оказывается вопрос политический. В медицине разбираются профессиональные медики. Кто разбирается в политических вопросах? Профессиональные политики. Simple as that.
Как в такой ситуации обеспечить демократическую форму правления? Предлагать народу простое действие, которое неспособно нанести реальный вред демократии: построить систему политической конкуренции между элитами, где народ периодически будет выбирать того или иного представителя той или иной элиты. А потом — меняются. Иными словами, люди не смогут принимать действительно что-то меняющие решения по глупости или потому, что не до конца разобрались.
Это — не баг системы. Отсутствие политической грамотности народа — это одна из её исходных предпосылок, одна из основ для той идеи, которую мы привыкли сейчас называть демократией. Ощущение, что выборы ничего не меняют — верное в том смысле, что они и не были задуманы как инструмент изменений.
Йозеф Шумпетер (один из авторов, благодаря которому современная демократия выглядит так, как выглядит), «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
Но меня заинтересовала фраза колумнистки Маргарет Салливан, которая очень обеспокоена: «Чтобы функционировать, демократии нужен информированный электорат, и его количество трагически сокращается во многих регионах».
Вообще вопрос о том, нуждается ли электоральная демократия (то есть та, где формы политического участия народа редуцированы до пассивного проставления галки в четко определенных рамках) в политически образованном населении — с точки зрения политической науки совсем неочевидный.
Привычная нам либеральная демократическая теория сказала бы примерно так: нет, ну было бы неплохо, конечно; но ожидать от людей, которые отлично разбираются в собственных областях знания и которые погружены в личные интересы, чтобы они аналогично хорошо разбирались во внешне- и внутриполитических вопросах — абсурдно. Иными словами, мы всегда будем иметь дело с людьми, которые могут быть очень умными, скажем, в медицине или биохимии, но которые превращаются в детей, когда перед ними оказывается вопрос политический. В медицине разбираются профессиональные медики. Кто разбирается в политических вопросах? Профессиональные политики. Simple as that.
Как в такой ситуации обеспечить демократическую форму правления? Предлагать народу простое действие, которое неспособно нанести реальный вред демократии: построить систему политической конкуренции между элитами, где народ периодически будет выбирать того или иного представителя той или иной элиты. А потом — меняются. Иными словами, люди не смогут принимать действительно что-то меняющие решения по глупости или потому, что не до конца разобрались.
Это — не баг системы. Отсутствие политической грамотности народа — это одна из её исходных предпосылок, одна из основ для той идеи, которую мы привыкли сейчас называть демократией. Ощущение, что выборы ничего не меняют — верное в том смысле, что они и не были задуманы как инструмент изменений.
И есть правда в мысли Джефферсона о том, что в конечном счете народ мудрее каждого отдельно взятого индивида, или в высказывании Линкольна о невозможности "дурачить всех все время". Но оба эти высказывания не случайно подчеркивают долгосрочный аспект. Без сомнения, можно утверждать, что со временем коллективное сознание людей вырабатывает мнения, которые весьма часто представляются в высшей степени разумными и даже проницательными. История, однако, состоит из последовательных краткосрочных ситуаций, которые могут в корне изменить ход событий. Если в краткосрочной перспективе можно одурачить всех и заставить их принять то, чего они на самом деле не хотят, и если это не исключение, на которое можно закрыть глаза, то никакое количество ретроспективного здравого смысла не меняет главного вывода: не народ в действительности поднимает и решает вопросы, эти вопросы, определяющие его участь, поднимаются и решаются за него. Приверженец демократии более, чем кто бы то ни было, должен принять этот факт как данность, тогда никто не сможет утверждать, что его вера в демократию основана на притворстве.
Йозеф Шумпетер (один из авторов, благодаря которому современная демократия выглядит так, как выглядит), «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
👍19🤔3
Нашла древний, аж из 2022 года, черновик поста про квир-репрезентацию — и про то, почему требование о ней есть, скорее всего, пустое. Дописывать мне лень, поэтому пусть полежит тут, как докумэнт эпохи (тогда меня это интересовало, кажется, больше, чем сейчас).
Есть гипотеза, что такой репрезентации опыта, которую многие ждут в кино, сериалах, книгах и прочих объектах культуры, не существует.
Потому что до определенной степени производство контента «об опыте меньшинств» (в зависимости от определения меньшинства в эту категорию может попадать самый разный опыт — от опыта целых гендерных групп до опыта переживающих какое-то локальное событие) — это некая форма колониальной этнографии.
Мы знаем с некоторой долей уверенности, что западная этнография (то есть опыт описания «других» народов и опытов) — это колониальная практика (в том смысле, что она создавалась и применялась в своем историческом контексте). Нарратив описывает этнограф, используя других как материал, его голос остается главным. Более того, саму деятельность этнографического письма можно описать как большую западную искупительную аллегорию, где культурное описание не «представляет и символизирует это или то», а «является морально нагруженной историей о том-то» (Джеймс Клиффорд).
Задача этнографа — сделать «человечески понятным» какое-то иначе странное, необъяснимое поведение. В этой оптике существует некий экзотический опыт или образ жизни, который, однако, можно объяснить с «общечеловеческой» точки зрения. Что-то напоминает, в общем-то! А именно: любой опыт (женский, квир, мигранты в каждой конкретной стране, цвет кожи, возраст, социальный класс, etc) «можно объяснить» (или написать, снять, представить) как не-маргинальный (или маргинальный, но когда-то давно или где-то далеко), если вписать его в правильный нарратив, в общепонятную сеть символов. Любая генерализующая практика по определению будет исключать часть картины реальности — потому что её задача, в конечном итоге, сделать высказывание внутри своего контекста и по своим правилам. Любой опыт обобщается и соотносится с «интерпретацией образа» того, кого пытаются описать.
В западной/европейской модели мысли у репрезентации есть две модальности: «реалистическая», где образы должны достоверно отображать мир, и «риторическая», где эти образы в силу своей формы дают оценку изображаемому миру. Вторая модальность — пространство либо эстетики, либо идеологии. И, на мой взгляд, в случае с нарративом репрезентации мы имеем дело, конечно, с риторикой и с идеологией — именно они формируют тот язык, которым рассказывается история, и именно это определяет, кто является целевой аудиторией истории.
Получается, мы хотим услышать свою историю на своем языке (на языке, который ощущается для нас естественным и понятным), историю про себя для себя, а получаем «репрезентацию» — риторический этнографический рассказ про себя, но для других. И понятно, почему дамы в кино постоянно в чепчиках изменившимся лицом бегут к пруду, где одна умрет, а вторая выйдет замуж: это буквально антропологическое исследование прошлых, социально-обусловленных, страданий, мол, посмотрите, как они/мы дико жили, как это было несправедливо и трагично, как дивно и хорошо, что больше — не так, и об этой особенности можно не думать. Этнография — это либо история об отличиях (посмотрите на них, насколько они другие), либо история с определенной моралью (посмотрите на них, а теперь посмотрите на себя и сделайте выводы — например, да они же ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ((так, например, писала Маргарет Мид)), но это всегда история о Других, эстетическая или риторическая.
But is this even fun anymore? (Не уверена)
Есть гипотеза, что такой репрезентации опыта, которую многие ждут в кино, сериалах, книгах и прочих объектах культуры, не существует.
Потому что до определенной степени производство контента «об опыте меньшинств» (в зависимости от определения меньшинства в эту категорию может попадать самый разный опыт — от опыта целых гендерных групп до опыта переживающих какое-то локальное событие) — это некая форма колониальной этнографии.
Мы знаем с некоторой долей уверенности, что западная этнография (то есть опыт описания «других» народов и опытов) — это колониальная практика (в том смысле, что она создавалась и применялась в своем историческом контексте). Нарратив описывает этнограф, используя других как материал, его голос остается главным. Более того, саму деятельность этнографического письма можно описать как большую западную искупительную аллегорию, где культурное описание не «представляет и символизирует это или то», а «является морально нагруженной историей о том-то» (Джеймс Клиффорд).
Задача этнографа — сделать «человечески понятным» какое-то иначе странное, необъяснимое поведение. В этой оптике существует некий экзотический опыт или образ жизни, который, однако, можно объяснить с «общечеловеческой» точки зрения. Что-то напоминает, в общем-то! А именно: любой опыт (женский, квир, мигранты в каждой конкретной стране, цвет кожи, возраст, социальный класс, etc) «можно объяснить» (или написать, снять, представить) как не-маргинальный (или маргинальный, но когда-то давно или где-то далеко), если вписать его в правильный нарратив, в общепонятную сеть символов. Любая генерализующая практика по определению будет исключать часть картины реальности — потому что её задача, в конечном итоге, сделать высказывание внутри своего контекста и по своим правилам. Любой опыт обобщается и соотносится с «интерпретацией образа» того, кого пытаются описать.
В западной/европейской модели мысли у репрезентации есть две модальности: «реалистическая», где образы должны достоверно отображать мир, и «риторическая», где эти образы в силу своей формы дают оценку изображаемому миру. Вторая модальность — пространство либо эстетики, либо идеологии. И, на мой взгляд, в случае с нарративом репрезентации мы имеем дело, конечно, с риторикой и с идеологией — именно они формируют тот язык, которым рассказывается история, и именно это определяет, кто является целевой аудиторией истории.
Получается, мы хотим услышать свою историю на своем языке (на языке, который ощущается для нас естественным и понятным), историю про себя для себя, а получаем «репрезентацию» — риторический этнографический рассказ про себя, но для других. И понятно, почему дамы в кино постоянно в чепчиках изменившимся лицом бегут к пруду, где одна умрет, а вторая выйдет замуж: это буквально антропологическое исследование прошлых, социально-обусловленных, страданий, мол, посмотрите, как они/мы дико жили, как это было несправедливо и трагично, как дивно и хорошо, что больше — не так, и об этой особенности можно не думать. Этнография — это либо история об отличиях (посмотрите на них, насколько они другие), либо история с определенной моралью (посмотрите на них, а теперь посмотрите на себя и сделайте выводы — например, да они же ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ((так, например, писала Маргарет Мид)), но это всегда история о Других, эстетическая или риторическая.
But is this even fun anymore? (Не уверена)
❤21❤🔥6👍3
Сегодня Эрнст Юнгер приходит в ленту и напоминает: Уходя в Лес, не забывайте не возвращаться. Поглядим, вернется ли он еще раз с новыми гостинцами.
«Вызывает тревогу трансформация привычных вещей и понятий: они меняют свой облик зачастую совершенно внезапно и рождают совершенно иные плоды, чем ожидалось. Это признак анархии.
Рассмотрим для примера права и свободы одиночки по отношению к властям. Они определены конституцией. Однако придется и дальше, причем довольно долгое время считаться с нарушением этих прав, будь то со стороны государства или партии, завладевшей государством, или со стороны иноземного захватчика или всего этого сразу. Можно, пожалуй, сказать, что массы, по крайней мере у нас в стране, пребывают в таком состоянии, что они вряд ли вообще способны замечать нарушения конституции. Там, где это сознание однажды утеряно, его уже искусственно не восстановить.
Нарушение прав может также иметь легальную окраску, если, например, господствующая партия располагает большинством, необходимым для изменения конституции. Оказывается, большинство одновременно может обладать правом и творить несправедливость: такое противоречие не помещается в простые головы. Уже во время голосования трудно понять, где кончается право и начинается насилие.
Превышение полномочий постепенно учащается и усугубляется, начиная выглядеть в отношении определенных групп как чистое преступление. Кто мог наблюдать принятие подобных, поддержанных массовым одобрением документов, тот знает, как мало против этого можно предпринять обычными средствами. Этического самоубийства нельзя требовать ни от кого, особенно если оно предписывается из-за границы.
<...>
Мы можем понять эти упреки, хотя они и принимали гротескные формы, отнюдь не курьезные. Речь, скорее, идет о новой черте нашего мира, и можно только порекомендовать всегда иметь ее в виду во времена, когда нет недостатка в общественной несправедливости. В одном случае оккупанты навешивают на вас ярлык коллаборациониста, в другом случае партии навешивают на вас ярлык попутчика. Так одиночка оказывается в ситуации между Сциллой и Харибдой; ему грозит ликвидация как за участие, так и за неучастие.
От одиночки ожидается большое мужество; от него требуется, чтобы он протянул руку помощи праву, даже входя тем самым в противостояние с государственной властью. Кто-то усомнится, что подобных людей вообще можно найти. Между тем они появятся и станут Ушедшими в Лес. Столь же непременно подобный тип будет вписан в картину истории, поскольку существуют такие формы принуждения, которые не оставляют выбора. <...>
Странный образ: одиночка — или даже множество одиночек, — обороняющийся от Левиафана. И все же именно в таком положении колосс оказывается под угрозой. Нужно понимать, что даже малое число людей, по-настоящему решительных, не только в моральном смысле, но и в действительности представляют собой угрозу».
«Вызывает тревогу трансформация привычных вещей и понятий: они меняют свой облик зачастую совершенно внезапно и рождают совершенно иные плоды, чем ожидалось. Это признак анархии.
Рассмотрим для примера права и свободы одиночки по отношению к властям. Они определены конституцией. Однако придется и дальше, причем довольно долгое время считаться с нарушением этих прав, будь то со стороны государства или партии, завладевшей государством, или со стороны иноземного захватчика или всего этого сразу. Можно, пожалуй, сказать, что массы, по крайней мере у нас в стране, пребывают в таком состоянии, что они вряд ли вообще способны замечать нарушения конституции. Там, где это сознание однажды утеряно, его уже искусственно не восстановить.
Нарушение прав может также иметь легальную окраску, если, например, господствующая партия располагает большинством, необходимым для изменения конституции. Оказывается, большинство одновременно может обладать правом и творить несправедливость: такое противоречие не помещается в простые головы. Уже во время голосования трудно понять, где кончается право и начинается насилие.
Превышение полномочий постепенно учащается и усугубляется, начиная выглядеть в отношении определенных групп как чистое преступление. Кто мог наблюдать принятие подобных, поддержанных массовым одобрением документов, тот знает, как мало против этого можно предпринять обычными средствами. Этического самоубийства нельзя требовать ни от кого, особенно если оно предписывается из-за границы.
<...>
Мы можем понять эти упреки, хотя они и принимали гротескные формы, отнюдь не курьезные. Речь, скорее, идет о новой черте нашего мира, и можно только порекомендовать всегда иметь ее в виду во времена, когда нет недостатка в общественной несправедливости. В одном случае оккупанты навешивают на вас ярлык коллаборациониста, в другом случае партии навешивают на вас ярлык попутчика. Так одиночка оказывается в ситуации между Сциллой и Харибдой; ему грозит ликвидация как за участие, так и за неучастие.
От одиночки ожидается большое мужество; от него требуется, чтобы он протянул руку помощи праву, даже входя тем самым в противостояние с государственной властью. Кто-то усомнится, что подобных людей вообще можно найти. Между тем они появятся и станут Ушедшими в Лес. Столь же непременно подобный тип будет вписан в картину истории, поскольку существуют такие формы принуждения, которые не оставляют выбора. <...>
Странный образ: одиночка — или даже множество одиночек, — обороняющийся от Левиафана. И все же именно в таком положении колосс оказывается под угрозой. Нужно понимать, что даже малое число людей, по-настоящему решительных, не только в моральном смысле, но и в действительности представляют собой угрозу».
Telegram
Вроде культурный человек
Эрнст Юнгер, «Уход в лес»:
Как и все стратегические фигуры, «котёл» являет нам точный образ эпохи, стремящейся прояснить свои вопросы огнём. Безвыходное окружение человека давно уже подготовлено в первую очередь теориями, стремящимися к логичному и исчерпывающему…
Как и все стратегические фигуры, «котёл» являет нам точный образ эпохи, стремящейся прояснить свои вопросы огнём. Безвыходное окружение человека давно уже подготовлено в первую очередь теориями, стремящимися к логичному и исчерпывающему…
❤10❤🔥3👍1
(Идея Юнгера — одиночка, который находит силы сказать «нет» режимам власти (будь-то режим государственной, тиранической, партийной или демократической, массовой власти, тут Юнгер, следуя платоновской традиции, не делает никаких сутевых различий, и режима оппозиционного или либерального, который вынужден создавать собственные логики пропаганды и ограничений свободы). Обе системы заставляют делать выбор или-или — или ты с нами, или ты против нас, иного не дано; Уход в Лес — тот самый иной выбор, создающий особенную форму одиночества. У такого одиночки есть три спасительные силы, неподконтрольные Левиафану: любое учение о трансценденции (религия или любая форма духовности, согласно которой есть нечто большее, чем комфорт и отсутствие боли в физической жизни — иначе нет никакого смысла выбирать что-то кроме комфорта и отсутствия боли), любовь и творчество. Что ж еще.
«Уход в Лес — это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает нечто большее».
Ничего особенно хорошего в эпохе модерна с Ушедшим в Лес не происходит — это похоже на выбор агента, который, может быть, и хотел бы остаться частью той или иной силы, но это противоречит важности практиковать свободу, а значит, противоречит исконному, еще древнегреческому пониманию подлинной политики).
«Уход в Лес — это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает нечто большее».
Ничего особенно хорошего в эпохе модерна с Ушедшим в Лес не происходит — это похоже на выбор агента, который, может быть, и хотел бы остаться частью той или иной силы, но это противоречит важности практиковать свободу, а значит, противоречит исконному, еще древнегреческому пониманию подлинной политики).
❤17
Если наш «левый дядюшка за семейным столом» — это Дэвид Гребер, то у Дэвида Гребера им, очевидно, был Карл Поланьи.
«Разумеется, никакое общество не могло бы жить, не располагая экономикой того или иного типа, однако вплоть до нашей эпохи не существовало экономики, которая, хотя бы в принципе, управлялась законами рынка. Вопреки хору академических заклинаний, столь упорных в XIX в., прибыль и доход, получаемые посредством обмена, в прежние времена никогда не играли важной роли в человеческой экономике. Хотя сам институт рынка был довольно широко распространен начиная с позднего каменного века, его функция в экономической жизни оставалась вполне второстепенной.
Мыслитель такого уровня, как Адам Смит, утверждал, что разделение труда в обществе зависит от существования рынков или, как он выразился, от «склонности человека к торгу и обмену».
Впоследствии из этой фразы развилась концепция Экономического Человека. Теперь, в ретроспективе, можно сказать, что никогда еще ложное истолкование прошлого не оказывалось столь же блестящим предсказанием будущего. Ибо если до Адама Смита эта склонность едва ли обнаруживалась в сколько-нибудь значительных масштабах в каком-либо из известных нам обществ, оставаясь, самое большее, второстепенным фактором экономической жизни, то уже сто лет спустя на большей части земного шара развилась такая система хозяйственной организации, которая и практически и теоретически исходила из того, что всей экономической деятельностью человечества и чуть ли не всеми его политическими, интеллектуальными и духовными устремлениями управляет именно эта склонность. Во второй половине XIX в., после весьма поверхностного знакомства с экономическими проблемами, Герберт Спенсер отождествил принцип разделения труда с обменом, а еще через 50 лет то же заблуждение повторяли Людвиг фон Мизес и Уолтер Липпман. Впрочем, к этому времени никто уже и не требовал доказательств: целый сонм авторов, писавших по вопросам политической экономики, социальной истории, политической философии и общей социологии, двинулся по стопам Смита, превратив его пример «обменивающегося дикаря» в аксиому соответствующих наук. На самом же деле гипотеза Адама Смита об экономической психологии первобытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии дикаря. Разделение труда, феномен столь же древний, как и само общество, обусловлен различиями, заданными полом, географией и индивидуальными способностями, а пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична. Истории и этнографии известны разные типы экономик, большинство из которых включает в себя институт рынка, но им неведома какая-либо экономика, предшествующая нашей, которая бы, пусть даже в минимальной степени, регулировалась и управлялась рынком. <...>
Вначале мы должны отбросить некоторые предрассудки XIX столетия, лежавшие в основе гипотезы Адама Смита о мнимом пристрастии первобытного человека к прибыльным занятиям. Поскольку аксиома эта имела гораздо больше смысла в применении к ближайшему будущему, нежели к туманному прошлому, то она внушила его последователям странный подход к ранней истории человечества. Фактические данные свидетельствовали, на первый взгляд, о том, что первобытному человеку была свойственна не капиталистическая, а как раз коммунистическая психология (позднее было доказано, что и это неверно). А потому экономические историки ограничивали свой научный интерес тем сравнительно коротким периодом истории, когда феномен обмена приобрел заметный размах, первобытная же экономика была низведена до уровня «предыстории». В итоге они невольно склонили чашу весов в пользу рыночной психологии, ибо в пределах относительно краткого периода — нескольких последних столетий — буквально все можно было истолковать как тенденцию к утверждению того, что в конце концов и утвердилось, т. е. рыночной системы, совершенно игнорируя при этом прочие тенденции, на время исчезнувшие из виду».
Карл Поланьи, «Великая Трансформация» (1944)
«Разумеется, никакое общество не могло бы жить, не располагая экономикой того или иного типа, однако вплоть до нашей эпохи не существовало экономики, которая, хотя бы в принципе, управлялась законами рынка. Вопреки хору академических заклинаний, столь упорных в XIX в., прибыль и доход, получаемые посредством обмена, в прежние времена никогда не играли важной роли в человеческой экономике. Хотя сам институт рынка был довольно широко распространен начиная с позднего каменного века, его функция в экономической жизни оставалась вполне второстепенной.
Мыслитель такого уровня, как Адам Смит, утверждал, что разделение труда в обществе зависит от существования рынков или, как он выразился, от «склонности человека к торгу и обмену».
Впоследствии из этой фразы развилась концепция Экономического Человека. Теперь, в ретроспективе, можно сказать, что никогда еще ложное истолкование прошлого не оказывалось столь же блестящим предсказанием будущего. Ибо если до Адама Смита эта склонность едва ли обнаруживалась в сколько-нибудь значительных масштабах в каком-либо из известных нам обществ, оставаясь, самое большее, второстепенным фактором экономической жизни, то уже сто лет спустя на большей части земного шара развилась такая система хозяйственной организации, которая и практически и теоретически исходила из того, что всей экономической деятельностью человечества и чуть ли не всеми его политическими, интеллектуальными и духовными устремлениями управляет именно эта склонность. Во второй половине XIX в., после весьма поверхностного знакомства с экономическими проблемами, Герберт Спенсер отождествил принцип разделения труда с обменом, а еще через 50 лет то же заблуждение повторяли Людвиг фон Мизес и Уолтер Липпман. Впрочем, к этому времени никто уже и не требовал доказательств: целый сонм авторов, писавших по вопросам политической экономики, социальной истории, политической философии и общей социологии, двинулся по стопам Смита, превратив его пример «обменивающегося дикаря» в аксиому соответствующих наук. На самом же деле гипотеза Адама Смита об экономической психологии первобытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии дикаря. Разделение труда, феномен столь же древний, как и само общество, обусловлен различиями, заданными полом, географией и индивидуальными способностями, а пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична. Истории и этнографии известны разные типы экономик, большинство из которых включает в себя институт рынка, но им неведома какая-либо экономика, предшествующая нашей, которая бы, пусть даже в минимальной степени, регулировалась и управлялась рынком. <...>
Вначале мы должны отбросить некоторые предрассудки XIX столетия, лежавшие в основе гипотезы Адама Смита о мнимом пристрастии первобытного человека к прибыльным занятиям. Поскольку аксиома эта имела гораздо больше смысла в применении к ближайшему будущему, нежели к туманному прошлому, то она внушила его последователям странный подход к ранней истории человечества. Фактические данные свидетельствовали, на первый взгляд, о том, что первобытному человеку была свойственна не капиталистическая, а как раз коммунистическая психология (позднее было доказано, что и это неверно). А потому экономические историки ограничивали свой научный интерес тем сравнительно коротким периодом истории, когда феномен обмена приобрел заметный размах, первобытная же экономика была низведена до уровня «предыстории». В итоге они невольно склонили чашу весов в пользу рыночной психологии, ибо в пределах относительно краткого периода — нескольких последних столетий — буквально все можно было истолковать как тенденцию к утверждению того, что в конце концов и утвердилось, т. е. рыночной системы, совершенно игнорируя при этом прочие тенденции, на время исчезнувшие из виду».
Карл Поланьи, «Великая Трансформация» (1944)
❤11👍1
Если загуглить karl polanyi meme, вылезает oh no the economy: шуточки о том, что если всю свою жизнь мы паримся о ВВП, EBITDA, опционах, купонах, прибыли для акционеров, капитализации Apple и внешнем долге, значит ли это, что это и есть самая важная для общества вещь, ключевая структура и ценность, которая нас определяет, как людей? Значит ли это, что когда Земля сгорит в ядерном пламени, нашей последней мыслью будет: о нет, как жаль, экономика?
Если это звучит смешно, разве не странно, что мы тратим бесценную жизнь на работу на рынок? А если странно — то почему так происходит? Это — один из ключевых тезисов Поланьи, который задается вопросом чуть более глубоким, чем «что значит мемчик»: как стала возможна Вторая Мировая Война, почему возник фашизм, какие социальные трансформации должны были произойти, чтобы все это стало возможным, и что их вызвало?
Ответ он ищет в дуальности отношений социального и экономического: промышленная революция и последовавшие за ней трансформации в экономической мотивации людей (новые классы буржуа приходят на смену наследной и королевской знати, и их основная задача — личное обогащение) разрушили привычные связи, уничтожили традиционные формы взаимодействия людей внутри разных социальных структур (в семье, земельных отношениях, работе, etc). Изменения были слишком быстрыми и неконтролируемыми, а на смену разорвавшимся связям не пришло ничего — только опустошающая гонка за прибылью (для других), вечное капиталистическое колесо сансары (постоянно растущие потребности и желания, чтобы вынудить людей работать больше) и рынки, которые управляют жизнью общества, но которые (the irony) вовсе не являются свободными и никогда, в общем, не являлись. По Поланьи выходит, что общество сейчас существует только для того, чтобы могла продолжать существовать рыночная экономика — и никакой социальной жизни за её пределами мы уже не представляем, а ведь прошло (в рамках человеческой истории) очень немного времени с тех пор, как эта идея вообще а) появилась и б) стала «нормальной».
Oh no.
Если это звучит смешно, разве не странно, что мы тратим бесценную жизнь на работу на рынок? А если странно — то почему так происходит? Это — один из ключевых тезисов Поланьи, который задается вопросом чуть более глубоким, чем «что значит мемчик»: как стала возможна Вторая Мировая Война, почему возник фашизм, какие социальные трансформации должны были произойти, чтобы все это стало возможным, и что их вызвало?
Ответ он ищет в дуальности отношений социального и экономического: промышленная революция и последовавшие за ней трансформации в экономической мотивации людей (новые классы буржуа приходят на смену наследной и королевской знати, и их основная задача — личное обогащение) разрушили привычные связи, уничтожили традиционные формы взаимодействия людей внутри разных социальных структур (в семье, земельных отношениях, работе, etc). Изменения были слишком быстрыми и неконтролируемыми, а на смену разорвавшимся связям не пришло ничего — только опустошающая гонка за прибылью (для других), вечное капиталистическое колесо сансары (постоянно растущие потребности и желания, чтобы вынудить людей работать больше) и рынки, которые управляют жизнью общества, но которые (the irony) вовсе не являются свободными и никогда, в общем, не являлись. По Поланьи выходит, что общество сейчас существует только для того, чтобы могла продолжать существовать рыночная экономика — и никакой социальной жизни за её пределами мы уже не представляем, а ведь прошло (в рамках человеческой истории) очень немного времени с тех пор, как эта идея вообще а) появилась и б) стала «нормальной».
Oh no.
❤28🤔5👍3
Сигаловада сутта — текст, в котором собраны наставления для буддистов-мирян, занятых материальной деятельностью (а не духовной). В ней Будда беседует с Сугалой — представителем сословия вайшьев, которые зарабатывают себе на жизнь с помощью мирского ремесла, и советы ему несколько отличаются от тех, что он дает брахманам и царям.
В числе прочих, в этом тексте есть шесть каналов для рассеивания богатства, которыми не занимается благородный ученик — среди которых, в свою очередь, есть «привычка к безделью».
Коллеги, не могу не задать этот вопрос: мы или мы?
В числе прочих, в этом тексте есть шесть каналов для рассеивания богатства, которыми не занимается благородный ученик — среди которых, в свою очередь, есть «привычка к безделью».
(е) Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в привычке к безделью:
Он совсем не работает, говоря:
(1) что слишком холодно,
(2) что слишком жарко,
(3) что слишком поздно,
(4) что слишком рано,
(5) что он очень голоден,
(6) что он очень наелся.
Коллеги, не могу не задать этот вопрос: мы или мы?
😁18❤11💯6❤🔥2🤔1
СДВГ и «стена отвращения»
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой я ловлю себя на согласии с последствиями того, что сделано это мной не будет. И, конечно, когда последствия все же наступают, я думаю:
Катя блин почему так
Есть такая метафора: «стена отвращения» (wall of awful). Когда мы беремся за дело, перед нами не только, собственно, само дело, но и «стена отвращения» — эмоциональные барьеры, которые состоят из прошлого опыта (провалов, разочарования, прокрастинации, тревоги, отвержения, критики, сомнений, скуки). Такие барьеры есть у всех — но у сдвгешников они часто больше, прочнее и разнообразнее: из-за многолетнего и обычно обширного опыта проваленных задач, прокрастинации, запихивания себя в деятельность через страх или критику, низкой мотивации и особенностей исполнительной функции, которая могла бы перетолкнуть нас через стену, но она вышла из чата.
Катя блин че делать
Дофамин от некоторых заданий разносит стену (Настолько Интересно), ответственность перед другими (начальниками, коллегами по проекту, божьей матерью) и разнообразная экстернализация (убраться дома нет сил, но если придут гости — привет, гиперфокус на уборке) тоже помогает. Но это применимо не ко всем задачам.
В этом видео про «стену» перечисляют несколько практик:
1. Разбить стену. Это злость, направленная вовне (как же вы надоели, ладно, сделаю на силе ненависти к вам) или вовнутрь (как же я себе надоела, ладно, сделаю на силе ненависти к себе) — работает, но у этого есть понятная цена: разрушение отношений с людьми или с собой. Лучше к этому методу не прибегать. Но в эту тактику может качнуть независимо, потому, что это естественная человеческая реакция (замри, беги, бей — это именно бей), а у СДВГ-людей часто есть проблемы с контролем эмоциональной импульсивности.
2. Перелезть через стену. Признать её наличие (я не пишу это письмо не потому, что ленивая — передо мной, буквально, стена), посмотреть на нее и попытаться начать через неё перебираться в своем уме. Например, открыть почту — почувствовать что-то (отвращение, скуку), назвать это, и сказать себе: «прямо сейчас я лезу через стену». Это, по сути, эмоциональная рефлексия и рефрейминг: but again, мы столкнулись с эмоциональной проблемой, и она требует эмоционального решения. Да, это скорее долгосрочное решение; оно предполагает проработку «кирпичей» и делание барьеров не такими….барьеристыми. Терапия, направленная на эту работу, может сделать процесс более устойчивым.
3. Сделать дверь. Стена состоит из эмоций, которые мешают нам do the thing, мы можем попробовать изменить свое эмоциональное состояние через каналы получения, да, дофамина. У каждого могут быть разные схемы: например, форма физической активности (тренировка, отжимания рядом с рабочим столом, чертова прогулка), музыка, смена обстановки (да-да, писать в кофейне), холодный душ, тактильные штучки (аппликатор Кузнецова to the rescue), медитация или переключение внимания («Бросить якорь»). Это должны быть небольшие практики, которые не отправят вас в гиперфокус на НЕ ТОЙ ВЕЩИ.
4. Развесить по стене зацепы (да, это скалолазная метафора). А именно — конкретные СДВГ-навыки, к которым мы прибегаем, когда врезаемся в стену. Например, навыки планирования (планируем конкретные дела, небольшое количество и тд), или учимся измерять, сколько времени нам нужно, чтобы сделать дело (временная слепота мешает представить, что на оплату налогов не нужно тратить Весь День, но эмоционально это может так ощущаться, особенно если мы давно откладывали).
Лично мне помогает даже просто назвать сопротивление «стеной отвращения» и относиться к нему именно так — как к барьеру, который можно преодолеть. И дурацкая прогулка для дурацкого ментального здоровья, конечно.
С возвращением к публичной и рабочей жизни (в отличие от предыдущей, выгоревшей версии — философско-пенсионно-консультационной), у меня появилось больше дел, которые делать не хочется. Преодолеть нежелание бывает сложно — порой я ловлю себя на согласии с последствиями того, что сделано это мной не будет. И, конечно, когда последствия все же наступают, я думаю:
Катя блин почему так
Есть такая метафора: «стена отвращения» (wall of awful). Когда мы беремся за дело, перед нами не только, собственно, само дело, но и «стена отвращения» — эмоциональные барьеры, которые состоят из прошлого опыта (провалов, разочарования, прокрастинации, тревоги, отвержения, критики, сомнений, скуки). Такие барьеры есть у всех — но у сдвгешников они часто больше, прочнее и разнообразнее: из-за многолетнего и обычно обширного опыта проваленных задач, прокрастинации, запихивания себя в деятельность через страх или критику, низкой мотивации и особенностей исполнительной функции, которая могла бы перетолкнуть нас через стену, но она вышла из чата.
Катя блин че делать
Дофамин от некоторых заданий разносит стену (Настолько Интересно), ответственность перед другими (начальниками, коллегами по проекту, божьей матерью) и разнообразная экстернализация (убраться дома нет сил, но если придут гости — привет, гиперфокус на уборке) тоже помогает. Но это применимо не ко всем задачам.
В этом видео про «стену» перечисляют несколько практик:
1. Разбить стену. Это злость, направленная вовне (как же вы надоели, ладно, сделаю на силе ненависти к вам) или вовнутрь (как же я себе надоела, ладно, сделаю на силе ненависти к себе) — работает, но у этого есть понятная цена: разрушение отношений с людьми или с собой. Лучше к этому методу не прибегать. Но в эту тактику может качнуть независимо, потому, что это естественная человеческая реакция (замри, беги, бей — это именно бей), а у СДВГ-людей часто есть проблемы с контролем эмоциональной импульсивности.
2. Перелезть через стену. Признать её наличие (я не пишу это письмо не потому, что ленивая — передо мной, буквально, стена), посмотреть на нее и попытаться начать через неё перебираться в своем уме. Например, открыть почту — почувствовать что-то (отвращение, скуку), назвать это, и сказать себе: «прямо сейчас я лезу через стену». Это, по сути, эмоциональная рефлексия и рефрейминг: but again, мы столкнулись с эмоциональной проблемой, и она требует эмоционального решения. Да, это скорее долгосрочное решение; оно предполагает проработку «кирпичей» и делание барьеров не такими….барьеристыми. Терапия, направленная на эту работу, может сделать процесс более устойчивым.
3. Сделать дверь. Стена состоит из эмоций, которые мешают нам do the thing, мы можем попробовать изменить свое эмоциональное состояние через каналы получения, да, дофамина. У каждого могут быть разные схемы: например, форма физической активности (тренировка, отжимания рядом с рабочим столом, чертова прогулка), музыка, смена обстановки (да-да, писать в кофейне), холодный душ, тактильные штучки (аппликатор Кузнецова to the rescue), медитация или переключение внимания («Бросить якорь»). Это должны быть небольшие практики, которые не отправят вас в гиперфокус на НЕ ТОЙ ВЕЩИ.
4. Развесить по стене зацепы (да, это скалолазная метафора). А именно — конкретные СДВГ-навыки, к которым мы прибегаем, когда врезаемся в стену. Например, навыки планирования (планируем конкретные дела, небольшое количество и тд), или учимся измерять, сколько времени нам нужно, чтобы сделать дело (временная слепота мешает представить, что на оплату налогов не нужно тратить Весь День, но эмоционально это может так ощущаться, особенно если мы давно откладывали).
Лично мне помогает даже просто назвать сопротивление «стеной отвращения» и относиться к нему именно так — как к барьеру, который можно преодолеть. И дурацкая прогулка для дурацкого ментального здоровья, конечно.
❤35❤🔥13👍1
Forwarded from СветоЭлектроМатерия
Только не это
В некоторых престижных российских научпоп-медиа былых времен, как и в иных Солидных Европейских Журналах былых времен, было принято приглашать оригинальных авторов с такими оговорками:
- Только не пишите ничего слишком научного!
- Слог статьи должен быть максимально понятен!
- Никаких терминов! Наш читатель не поймет!
Так шли годы, я торговалась и отрицала, и вот к какой позиции я склоняюсь сегодня: если издание ориентировано на читателя, неспособного понять сложные мысли, это значит, что оно активно банкротится социально и не умеет работать с реальной аудиторией - действует реактивно, а не активно.
"Читатель", кем бы он ни был, уже по своему определению человек заинтересованный, иначе он просто не откроет статью и не купит книгу.
Другое дело - чтобы понять его интерес, надо провести определенную и довольно большую работу.
Расшарите? Я бы почитала споры на эту тему.
В некоторых престижных российских научпоп-медиа былых времен, как и в иных Солидных Европейских Журналах былых времен, было принято приглашать оригинальных авторов с такими оговорками:
- Только не пишите ничего слишком научного!
- Слог статьи должен быть максимально понятен!
- Никаких терминов! Наш читатель не поймет!
Так шли годы, я торговалась и отрицала, и вот к какой позиции я склоняюсь сегодня: если издание ориентировано на читателя, неспособного понять сложные мысли, это значит, что оно активно банкротится социально и не умеет работать с реальной аудиторией - действует реактивно, а не активно.
"Читатель", кем бы он ни был, уже по своему определению человек заинтересованный, иначе он просто не откроет статью и не купит книгу.
Другое дело - чтобы понять его интерес, надо провести определенную и довольно большую работу.
Расшарите? Я бы почитала споры на эту тему.
❤2
СветоЭлектроМатерия
Только не это В некоторых престижных российских научпоп-медиа былых времен, как и в иных Солидных Европейских Журналах былых времен, было принято приглашать оригинальных авторов с такими оговорками: - Только не пишите ничего слишком научного! - Слог статьи…
Oh, do I have something to say on that.
Несколько лет я проработала в медиа (РБК), и в последний год рулила проектом, который, казалось бы, нацелен на что-то, связанное с познанием мира вокруг (РБК Тренды). Сотрудничала и с другими медиа, где-то делала проекты, куда-то что-то писала — и как человек, который любит познание (в моем случае, социальное и гуманитарное, и я специально тут избегаю слова «наука»), я считаю, что это в первую очередь способ узнать про мир кучу интересного, надумать кучу интересных штук и научиться смотреть на вещи с кучи интересных ракурсов. И, как медиаменеджер, я думала, что медиа — это идеальный способ эту логику популяризировать, связывать «вот еще как можно на это посмотреть»-логику и людей.
Мои наблюдения таковы.
Индустрия медиа по бОльшей части работает по рекламной модели: корпорации покупают у медиа «глаза», поэтому медиаплощадка должна любыми средствами нагнать соответствующее их количество и показать им рекламу. Тот факт, что глаза прицеплены к людям, которые еще и принимают какие-то самостоятельные решения — скорее неудобство, чем вдохновляющая возможность на установление продуктивного контакта. Аудитория абстрактна, её мотивы туманны и часто зависят от воли других крупных игроков — поставщиков трафика (условный гугл или фейсбук обрубает трафик на медиа — цифры аудитории летят вниз). До тех пор, пока медиа не начинает думать о других вещах (репутации (том самом социальном капитале); подписной модели; других продуктах), оно вообще редко думает о каких-то там читателях как отдельных людях с интересами.
В России, как мне кажется, больше, чем где-либо еще среди сотрудников медий (причем на всех сторонах политического спектра) распространена демофобия — а именно, неприязнь к людям в массе (демосу), отношение к ним как в целом глупым, несамостоятельным, враждебно настроенным и недалеким. В этой иерархической системе аудитория всегда «недо»: если у нас научное медиа, она недо-научена; если политическое — недо-политична; если феминистское — недо-просвещенна в нужном духе. От этого — особый тон: или дидактический; или «надо очень просто, чтобы любой дурачок понял»; или манипуляционный (упрощай до искажений, вообще не суть, они иначе не поймут). Короче, нужно как можно проще — чтобы как можно больше людей «выловить», привлечь (и показать им рекламу). Другая крайность — полное равнодушие к читателю — журналистика несет правду, это её главная задача, реципиент в разговоре об истине либо отсутствует, либо по определению не прав, должен быть подвержен воздействию знающего и измениться в объективно лучшую сторону. (Здесь можно порассуждать о том, что политика, построенная на демофобии — будь то консервативная или либеральная, — и производит такую же демофобную публичную сферу — как ответвление этой темы).
Проблема в том, что между этими двумя крайностями, по сути, ничего и нет: нет публичной, массовой медийной площадки, которая бы рассматривала свою аудиторию как сообщество равных людей, способных на дискуссию. К которым не надо относиться как к идиотам, недоучкам, ботам или толпе, которую нужно куда-то направить. (Нишевые площадки, построенные на коммьюнити и репутационных механиках — вполне есть, но там и модель другая, и своя специфика).
Я не думаю, что научные термины или какая-то натянутая сложность — это самоценность. За ними тоже часто скрывается дидактика, манипуляции или отсутствие смысла. Чтобы понять интерес читателя, действительно нужно проделать большую работу — проблема в том, что из-за контекста существования этих (медийных) систем, многие попросту не заинтересованы в этой работе, потому что она не окупится — будь то в деньгах или ином ресурсе.
И это еще вершинка айсберга, конечно.
(Меня наверняка читают бывшие и нынешние работники медиа и топора — заходите в комменты😁 )
Несколько лет я проработала в медиа (РБК), и в последний год рулила проектом, который, казалось бы, нацелен на что-то, связанное с познанием мира вокруг (РБК Тренды). Сотрудничала и с другими медиа, где-то делала проекты, куда-то что-то писала — и как человек, который любит познание (в моем случае, социальное и гуманитарное, и я специально тут избегаю слова «наука»), я считаю, что это в первую очередь способ узнать про мир кучу интересного, надумать кучу интересных штук и научиться смотреть на вещи с кучи интересных ракурсов. И, как медиаменеджер, я думала, что медиа — это идеальный способ эту логику популяризировать, связывать «вот еще как можно на это посмотреть»-логику и людей.
Мои наблюдения таковы.
Индустрия медиа по бОльшей части работает по рекламной модели: корпорации покупают у медиа «глаза», поэтому медиаплощадка должна любыми средствами нагнать соответствующее их количество и показать им рекламу. Тот факт, что глаза прицеплены к людям, которые еще и принимают какие-то самостоятельные решения — скорее неудобство, чем вдохновляющая возможность на установление продуктивного контакта. Аудитория абстрактна, её мотивы туманны и часто зависят от воли других крупных игроков — поставщиков трафика (условный гугл или фейсбук обрубает трафик на медиа — цифры аудитории летят вниз). До тех пор, пока медиа не начинает думать о других вещах (репутации (том самом социальном капитале); подписной модели; других продуктах), оно вообще редко думает о каких-то там читателях как отдельных людях с интересами.
В России, как мне кажется, больше, чем где-либо еще среди сотрудников медий (причем на всех сторонах политического спектра) распространена демофобия — а именно, неприязнь к людям в массе (демосу), отношение к ним как в целом глупым, несамостоятельным, враждебно настроенным и недалеким. В этой иерархической системе аудитория всегда «недо»: если у нас научное медиа, она недо-научена; если политическое — недо-политична; если феминистское — недо-просвещенна в нужном духе. От этого — особый тон: или дидактический; или «надо очень просто, чтобы любой дурачок понял»; или манипуляционный (упрощай до искажений, вообще не суть, они иначе не поймут). Короче, нужно как можно проще — чтобы как можно больше людей «выловить», привлечь (и показать им рекламу). Другая крайность — полное равнодушие к читателю — журналистика несет правду, это её главная задача, реципиент в разговоре об истине либо отсутствует, либо по определению не прав, должен быть подвержен воздействию знающего и измениться в объективно лучшую сторону. (Здесь можно порассуждать о том, что политика, построенная на демофобии — будь то консервативная или либеральная, — и производит такую же демофобную публичную сферу — как ответвление этой темы).
Проблема в том, что между этими двумя крайностями, по сути, ничего и нет: нет публичной, массовой медийной площадки, которая бы рассматривала свою аудиторию как сообщество равных людей, способных на дискуссию. К которым не надо относиться как к идиотам, недоучкам, ботам или толпе, которую нужно куда-то направить. (Нишевые площадки, построенные на коммьюнити и репутационных механиках — вполне есть, но там и модель другая, и своя специфика).
Я не думаю, что научные термины или какая-то натянутая сложность — это самоценность. За ними тоже часто скрывается дидактика, манипуляции или отсутствие смысла. Чтобы понять интерес читателя, действительно нужно проделать большую работу — проблема в том, что из-за контекста существования этих (медийных) систем, многие попросту не заинтересованы в этой работе, потому что она не окупится — будь то в деньгах или ином ресурсе.
И это еще вершинка айсберга, конечно.
(Меня наверняка читают бывшие и нынешние работники медиа и топора — заходите в комменты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤33👍2
«Приходится сделать вывод, что, возможно, не так-то просто ничего не делать, и это наводит на мысль о решении головоломки. Представьте себе, как сложится ваша жизнь, если вы узнаете, что больше никогда не будете путешествовать. Если вы не планируете кардинальных перемен в жизни, то такая перспектива выглядит устрашающе: «Раз, раз и еще раз, а потом я умру». Путешествие разделяет этот отрезок времени на тот, что происходит до поездки, и тот, что происходит после нее, скрывая от глаз уверенность в собственном уничтожении. И делает это самым хитрым образом: дает вам предвкушение этого. Вам не нравится думать о том, что однажды вы ничего не сделаете и никем не станете. Вы позволите себе предвосхитить этот опыт только тогда, когда сможете замаскировать его под рассказ о том, как вы делаете много интересных и полезных вещей: вы что-то переживаете, вы присоединяетесь к чему-то, вы преображаетесь, и у вас есть всякие безделушки и фотографии, чтобы это доказать».
В колонке про потребительскую суть современного концепта путешествий (когда мы едем куда-то на несколько дней, чтобы жить не так, как мы живем обычно — ходить по музеям, подниматься в гору на закате, смотреть на людей в кофейне, не чувствуя с ними никакой связи, а потом вернуться домой, полностью такими же, какими мы уезжали) встречается мысль, которую я сама в последнее время думаю довольно много. Мы как-то смирились с тем, что простая, обычная, повседневная жизнь в некотором смысле мучительна, и мы постоянно ищем, как бы из неё сбежать — на моречко, в европейскую столицу, в тропики, на сафари, серфинг или в палатку, на концерт, балет, кабриолет, и желательно, чтобы это происходило как можно чаще. И мысль, что обычная жизнь — это всё, что есть, невыносима без вот этих вот бесконечных средств побега, которые мало что дают, кроме желания сбегать и сбегать, снова и снова. Образ «наполненной» или «разнообразной» жизни трескается, если увидеть, что за идеей путешествия нет ничего, кроме чистого перемещения, потребления опыта, который никогда не стал бы нашей повседневностью, и нахождения с людьми, к которым мы вынуждены относиться, как зрители.
Сложно сказать при этом, что путешествия сами по себе, сами в себе, производят каких-то более глубоких, более интересных людей — современные политики, наверное, самые well traveled люди планеты, а Сократ, Кант и Эмили Дикинсон едва покидали пределы своих городов. Скорее, проблема в ложной причинно-следственной, казуальной связи: чем больше я потребляю разнообразных опытов Х (путешествий, культурки, тусовок — you name it), тем более наполненной становится моя жизнь. Но это далеко необязательно так: вопрос в том, меняет ли нас этот разнообразный опыт? приводит ли он к реальным трансформациям нашей этики, ценностей, мнений? или это просто гонка, потому что оставаться на месте невыносимо?
И тогда, конечно, вопрос меняется: а почему оставаться на месте невыносимо, и можно ли что-то сделать, чтобы это перестало быть так, кроме цепочки побегов. (В колонке можно заметить скрытую критику современного извода капитализма, в моем комментарии, наверное, тоже).
В колонке про потребительскую суть современного концепта путешествий (когда мы едем куда-то на несколько дней, чтобы жить не так, как мы живем обычно — ходить по музеям, подниматься в гору на закате, смотреть на людей в кофейне, не чувствуя с ними никакой связи, а потом вернуться домой, полностью такими же, какими мы уезжали) встречается мысль, которую я сама в последнее время думаю довольно много. Мы как-то смирились с тем, что простая, обычная, повседневная жизнь в некотором смысле мучительна, и мы постоянно ищем, как бы из неё сбежать — на моречко, в европейскую столицу, в тропики, на сафари, серфинг или в палатку, на концерт, балет, кабриолет, и желательно, чтобы это происходило как можно чаще. И мысль, что обычная жизнь — это всё, что есть, невыносима без вот этих вот бесконечных средств побега, которые мало что дают, кроме желания сбегать и сбегать, снова и снова. Образ «наполненной» или «разнообразной» жизни трескается, если увидеть, что за идеей путешествия нет ничего, кроме чистого перемещения, потребления опыта, который никогда не стал бы нашей повседневностью, и нахождения с людьми, к которым мы вынуждены относиться, как зрители.
Сложно сказать при этом, что путешествия сами по себе, сами в себе, производят каких-то более глубоких, более интересных людей — современные политики, наверное, самые well traveled люди планеты, а Сократ, Кант и Эмили Дикинсон едва покидали пределы своих городов. Скорее, проблема в ложной причинно-следственной, казуальной связи: чем больше я потребляю разнообразных опытов Х (путешествий, культурки, тусовок — you name it), тем более наполненной становится моя жизнь. Но это далеко необязательно так: вопрос в том, меняет ли нас этот разнообразный опыт? приводит ли он к реальным трансформациям нашей этики, ценностей, мнений? или это просто гонка, потому что оставаться на месте невыносимо?
И тогда, конечно, вопрос меняется: а почему оставаться на месте невыносимо, и можно ли что-то сделать, чтобы это перестало быть так, кроме цепочки побегов. (В колонке можно заметить скрытую критику современного извода капитализма, в моем комментарии, наверное, тоже).
The New Yorker
The Case Against Travel
It turns us into the worst version of ourselves while convincing us that we’re at our best.
❤31❤🔥11👍5🌚3