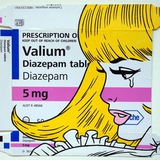Forwarded from Половинку никто не пишет
Природная неразличимость грибов, как известно, компенсировалась весьма дифференцированными и красочными определителями, в которых все они как на картинке. Руководства грибника изображали их в настолько ярком свете, практически как идею, что тут же хотелось отправиться за ними в лес, на "тихую охоту". Непонятно, зачем существуют ложные грибы, ложные опята, сатанинские грибы и т.п., если и так ясно, что все эта красочная различимость и наглядность отличий — продукт типографического искусства, то есть если они и так уже все ложные? Грибы различаются примерно так же, как и все остальное — ин-фолио, ин-кварто и т.д., но грибы в лесу, с мицелием, гифами и плодовым телом, — это даже не рукописи, это как речь в отношении к письму, в которой фонемы полностью сливаются и различить что-то крайне сложно. Как известно, грамматологический аргумент заключался в том, что сам принцип фонем как чистого различия уже предполагает письмо, поскольку, конечно, поток фонем может содержать произвольное количество шумов, искажений, кашля, чиханий и т.п., которые еще нужно отдифференцировать в качестве искажений (лингвисты полагают, что есть нейрологически организованный difference engine, который отличает шумы от не-шумов, хотя один и тот же «звук» может быть в одном и том же языке как шумом, так и не-шумом, не говоря уже о разных языках). Соответственно, сбор грибов — это работа с инопланетной речью, попытки выделить фонологическую систему там, где ее может и не быть (хотя для нас это немыслимо).
Forwarded from Половинку никто не пишет
Критиковать Грэбера не то чтобы сложно, но можно предположить, что некоторая бардачность его текстов сама построена из утопической точки анархического письма, в котором просто не будет ресурсов современной академии, основанной на привилегиях доступов. Например, «оригинальной» аргументации в «Долге» — самое большее на сотню страниц, а остальная часть представляет собой более или менее гладкую компиляцию. Но что если opus magnum в условиях анархизма может быть только такой компиляцией или даже плагиатом? Это уже указывает на омонимию плагиата: в обычном случае имеется в виду простое административное производство, которое заполняется тем, что есть. Но в другом плагиат скрывает за собой логику желания: копируется именно то, что хочется скопировать, хотя такой ход в первом режиме плагиата недопустим (разумеется, герои диссернета копировали не то, что им «хотелось», такой опции для них просто нет). То есть конфликт всегда между двумя формами плагиата, а не между плагиатом и воображаемым auteur, который способен производить что бы то ни было с нуля. Очевидно, что плагиат желания оказался полностью уничтожен «немаркированным», обычным плагиатом, а потому последний утвердился в качестве bête noire для всех и каждого (как анти-ценность, разделяемая не только научным сообществом, но и практически всем).
Грэбер неявно ставит вопрос о том, что стандартное академическое письмо, претендующее на оригинальность, независимость, самостоятельность и т.п., по сути, всегда остается мелкобуржуазным и не дотягивает до анархистского модуса производства. Что такое автор, как не минимальный собственник собственных средств производства, то есть ИП, владеющий определенными концепциями и темами? Капитализация авторов в условиях цитируемых журналов показала это как нельзя более ясно: ИП вышли на рынок, выпустили свои papers, сами стали stocks. Соответственно, контр-письмо может обращаться не столько к модусу оригинальности, сколько к плагиату: не важно, что именно пишется на коленке, главное, что оно вообще пишется, в качестве отсылки к желанию собрать именно это, а не то. Разумеется, даже такую практику приходится защищать лесом ссылок.
#graeber_debt_criticism
Грэбер неявно ставит вопрос о том, что стандартное академическое письмо, претендующее на оригинальность, независимость, самостоятельность и т.п., по сути, всегда остается мелкобуржуазным и не дотягивает до анархистского модуса производства. Что такое автор, как не минимальный собственник собственных средств производства, то есть ИП, владеющий определенными концепциями и темами? Капитализация авторов в условиях цитируемых журналов показала это как нельзя более ясно: ИП вышли на рынок, выпустили свои papers, сами стали stocks. Соответственно, контр-письмо может обращаться не столько к модусу оригинальности, сколько к плагиату: не важно, что именно пишется на коленке, главное, что оно вообще пишется, в качестве отсылки к желанию собрать именно это, а не то. Разумеется, даже такую практику приходится защищать лесом ссылок.
#graeber_debt_criticism