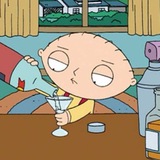Недавно узнал, что в Аргентине есть свой собственный фильм «для приготовления оливье» - то есть кино, которое здесь могут пересматривать снова и снова и желательно в окружении семьи. В России, наверное, это «Иван Васильевич меняет профессию» или «иронию судьбы» (никогда, к своему стыду, не смотрел), а в Аргентине это Esperando la carroza («В ожидании перевозки»). Фильм 1985 года мне велела посмотреть моя преподавательница испанского: «да-да, я люблю этот фильм – то есть, конечно же, я люблю этот фильм, я же аргентинка!».
Это такая камерная (немного черная) комедия, все действие которой происходит практически в одном доме, а ее главные героини – четыре женщины. По сюжету, всем мешающая бабушка («мама Кара») живет в семье старшего сына. Ее невестка недавно родила, так что в тесной квартирке творится бог знает что, и старушка в этом хаосе – дополнительный катализатор, наравне с младенцем. Бедная невестка не выдерживает, бежит вместе с мужем в дом другого сына мамы Кары, умоляя, чтобы тот взял старушку пожить к себе. Как и ожидалось, средний сын предложению не рад, а еще больше не рада предложению его жена с завивкой на голове. В процессе скандала в дом к среднему сыну приезжает и сын младший – вместе со своей женой-стрекозой (удивительно похожей на Гурченко!). Он, конечно, тоже не собирается никак участвовать в решении проблемы.
Мама Кара тем временем ушла из дома и, никого не предупредив, остается пожить в гостях – пока она то дремлет, то развлекает рассказами чужого ребенка, ее собственная семья в ужасе от пропажи старушки. Что делать, как быть и, наконец, кто виноват в случившемся? Семейные дрязги лезут наружу, в морге обнаруживается труп в туфлях точь-в-точь как у матушки, может это она и есть?! Семья устраивает похороны, собираются гости со всего района, престарелые подружки приезжают проститься с почившей…
В общем, для меня это слишком шумное кино – серьезно, кричат много и примерно все – но оно по-своему обаятельное. Колоритные женские типажи, интересный мир большой и не слишком дружной южной семьи. В интернете фильм можно найти с русскими субтитрами, ну а те, кто хочет хардкорной практики испанского – милости прошу, если вы поймете все, можно считать, что у вас уже есть С2. На фан-странице в социальных сетях есть множество отрывков из фильма – скажем так, для начала тренировки.
Это такая камерная (немного черная) комедия, все действие которой происходит практически в одном доме, а ее главные героини – четыре женщины. По сюжету, всем мешающая бабушка («мама Кара») живет в семье старшего сына. Ее невестка недавно родила, так что в тесной квартирке творится бог знает что, и старушка в этом хаосе – дополнительный катализатор, наравне с младенцем. Бедная невестка не выдерживает, бежит вместе с мужем в дом другого сына мамы Кары, умоляя, чтобы тот взял старушку пожить к себе. Как и ожидалось, средний сын предложению не рад, а еще больше не рада предложению его жена с завивкой на голове. В процессе скандала в дом к среднему сыну приезжает и сын младший – вместе со своей женой-стрекозой (удивительно похожей на Гурченко!). Он, конечно, тоже не собирается никак участвовать в решении проблемы.
Мама Кара тем временем ушла из дома и, никого не предупредив, остается пожить в гостях – пока она то дремлет, то развлекает рассказами чужого ребенка, ее собственная семья в ужасе от пропажи старушки. Что делать, как быть и, наконец, кто виноват в случившемся? Семейные дрязги лезут наружу, в морге обнаруживается труп в туфлях точь-в-точь как у матушки, может это она и есть?! Семья устраивает похороны, собираются гости со всего района, престарелые подружки приезжают проститься с почившей…
В общем, для меня это слишком шумное кино – серьезно, кричат много и примерно все – но оно по-своему обаятельное. Колоритные женские типажи, интересный мир большой и не слишком дружной южной семьи. В интернете фильм можно найти с русскими субтитрами, ну а те, кто хочет хардкорной практики испанского – милости прошу, если вы поймете все, можно считать, что у вас уже есть С2. На фан-странице в социальных сетях есть множество отрывков из фильма – скажем так, для начала тренировки.
❤26😁10
Дочитал, наконец, роман «Масло» Асако Юдзуки (Рипол), на который я потратил непростительно много времени – все же идеальный размер книги для меня страниц 300, а тут целых 480.
Начну с сюжета. Писательница рассказывает историю японки средних лет. Рика работает журналисткой в довольно популярном издании и решает написать серию статей о деле Манако Кадзии. Самоуверенная пухленькая преступница (простите за эпитеты, но это важные для сюжета вещи) оказалась в тюрьме потому, что ее подозревают в убийстве нескольких своих любовников преклонных лет. Внимание общественности приковано к делу именно из-за несоответствия ожиданий и реальности: ну разве может вот такая женщина соблазнить мужчину? Да не одного, а целый косяк мужчин! Вызывающая убежденность Манако в собственной привлекательности дополнительно провоцируют публику обсуждать процесс.
А еще Манако – настоящая гурманка и отлично умеет готовить. Собственно, через еду – то есть через желудок – она и завоевывала мужчин. Ну и любовью потакать своим избранникам, уверенностью в том, что роль (и счастье) женщины не в соперничестве с «сильным полом», а в умелом дополнении своего партнера.
Рика так увлекается делом, что не только добивается интервью с Манако, но и постепенно входит в ее доверие, с одной стороны, а с другой, сама попадает под ее странное обаяние. Она, вечно следящая за своим весом и прикладывающая столько усилий для соответствия ожиданиям общества, меняется в ходе расследования. Начинает много и вкусно готовить, хотя никогда этого не делала, пересматривает отношения с давним любовником, старается разобраться в одинокой смерти своего отца.
Эти сюжетные и смысловые линии Юдзуки использует еще и для того, чтобы рассказать о несправедливом положении женщин в Японии, о неравноправии и изнуряющей требовательности общества к девочкам, девушкам, женам и матерям.
В принципе, все это звучит многообещающе, а в паре с очень красивой обложкой (прикреплю ниже) буквально таки заставляет скорее взять книгу в руки и читать, читать, читать. Однако, на мой взгляд, книга скорее пригодится не читателям, желающим получить от романа удовольствие, а преподавателям курсов писательского мастерства. Текст так и хочется разобрать на составные части, чтобы показать, как и почему развешенные ружья нигде не стреляют, а начищенные до блеска механизмы, которые должны бы работать, не работают, а просто стоят красивенько на сцене. На подобный разбор я сейчас не замахнусь, но обращу внимание на пару вещей.
Асако Юдзуки совершает довольно частую писательскую ошибку: по себе знаю, порой кажется, будто для психологической достоверности, для того, чтобы показать путь формирования того или иного героя, хочется рассказать о нем вообще все. Пройтись по всем важным вехам в жизни, чтобы ни одного кусочка пазла не осталось за пределами романа. И вот ты начинаешь выдумывать ключевые моменты, начинаешь плодить «важные» сцены из жизни, надеясь объяснить буквально все в поведении персонажа. Но на деле это так не работает (или работает очень редко), потому что художественное произведение и выдуманный герой живут по одним законам, а человек в реальной жизни – по другим. Именно поэтому если ты опубликуешь подробную стенограмму своей жизни, то – при всей фактической точности – из нее о настоящем тебе читатели почти ничего не поймут.
Эта ситуация повторяется в книге примерно со всеми персонажами, в той или иной степени. Сколько бы ни рассказывала Юдзуки о Манако, о друзьях Рики, яснее, четче и правдоподобнее они от этого не становятся, только книжка пухнет (к моему несчастью). Персонажи вместо целостного образа получают набор кадров, которые никак не хотят склеиваться в полный метр. Пожалуй, только главная героиня выходит более или менее убедительной, но на фоне остальных недостатков романа – удивительный случай: в истории едва ли можно найти кульминацию как таковую, а единственный твист ближе к концу книги повисает буквально в воздухе, бессмысленно и беспощадно – это утешение не слишком сильное.
#книги
Начну с сюжета. Писательница рассказывает историю японки средних лет. Рика работает журналисткой в довольно популярном издании и решает написать серию статей о деле Манако Кадзии. Самоуверенная пухленькая преступница (простите за эпитеты, но это важные для сюжета вещи) оказалась в тюрьме потому, что ее подозревают в убийстве нескольких своих любовников преклонных лет. Внимание общественности приковано к делу именно из-за несоответствия ожиданий и реальности: ну разве может вот такая женщина соблазнить мужчину? Да не одного, а целый косяк мужчин! Вызывающая убежденность Манако в собственной привлекательности дополнительно провоцируют публику обсуждать процесс.
А еще Манако – настоящая гурманка и отлично умеет готовить. Собственно, через еду – то есть через желудок – она и завоевывала мужчин. Ну и любовью потакать своим избранникам, уверенностью в том, что роль (и счастье) женщины не в соперничестве с «сильным полом», а в умелом дополнении своего партнера.
Рика так увлекается делом, что не только добивается интервью с Манако, но и постепенно входит в ее доверие, с одной стороны, а с другой, сама попадает под ее странное обаяние. Она, вечно следящая за своим весом и прикладывающая столько усилий для соответствия ожиданиям общества, меняется в ходе расследования. Начинает много и вкусно готовить, хотя никогда этого не делала, пересматривает отношения с давним любовником, старается разобраться в одинокой смерти своего отца.
Эти сюжетные и смысловые линии Юдзуки использует еще и для того, чтобы рассказать о несправедливом положении женщин в Японии, о неравноправии и изнуряющей требовательности общества к девочкам, девушкам, женам и матерям.
В принципе, все это звучит многообещающе, а в паре с очень красивой обложкой (прикреплю ниже) буквально таки заставляет скорее взять книгу в руки и читать, читать, читать. Однако, на мой взгляд, книга скорее пригодится не читателям, желающим получить от романа удовольствие, а преподавателям курсов писательского мастерства. Текст так и хочется разобрать на составные части, чтобы показать, как и почему развешенные ружья нигде не стреляют, а начищенные до блеска механизмы, которые должны бы работать, не работают, а просто стоят красивенько на сцене. На подобный разбор я сейчас не замахнусь, но обращу внимание на пару вещей.
Асако Юдзуки совершает довольно частую писательскую ошибку: по себе знаю, порой кажется, будто для психологической достоверности, для того, чтобы показать путь формирования того или иного героя, хочется рассказать о нем вообще все. Пройтись по всем важным вехам в жизни, чтобы ни одного кусочка пазла не осталось за пределами романа. И вот ты начинаешь выдумывать ключевые моменты, начинаешь плодить «важные» сцены из жизни, надеясь объяснить буквально все в поведении персонажа. Но на деле это так не работает (или работает очень редко), потому что художественное произведение и выдуманный герой живут по одним законам, а человек в реальной жизни – по другим. Именно поэтому если ты опубликуешь подробную стенограмму своей жизни, то – при всей фактической точности – из нее о настоящем тебе читатели почти ничего не поймут.
Эта ситуация повторяется в книге примерно со всеми персонажами, в той или иной степени. Сколько бы ни рассказывала Юдзуки о Манако, о друзьях Рики, яснее, четче и правдоподобнее они от этого не становятся, только книжка пухнет (к моему несчастью). Персонажи вместо целостного образа получают набор кадров, которые никак не хотят склеиваться в полный метр. Пожалуй, только главная героиня выходит более или менее убедительной, но на фоне остальных недостатков романа – удивительный случай: в истории едва ли можно найти кульминацию как таковую, а единственный твист ближе к концу книги повисает буквально в воздухе, бессмысленно и беспощадно – это утешение не слишком сильное.
#книги
❤14👍2
Подозреваю, отчасти все это случилось из-за амбициозной писательской задачи. Асако Юдзуки хотела соединить сюжет, в основе которого лежит журналистское расследование, с тонким психологическим анализом героев и разговором на важные социальные темы. Но написать такое куда сложнее, чем просто придумать (а жаль, очень жаль!). Уверен, если бы писательница убрала расследование, мог бы получиться неплохой роман в духе горячо мной любимой «Госпожи Ким Чжи Ен, рожденной в 1982 году». Или, если бы она не так сильно погружалась в социальные проблемы, а докрутила детективную часть, мог бы выйти добротный жанровый представитель азиатской литературы.
Но нет, но нет. Как говорится, за двумя зайцами погонишься – лоб о какое-нибудь дерево расшибешь.
Но нет, но нет. Как говорится, за двумя зайцами погонишься – лоб о какое-нибудь дерево расшибешь.
❤15👍2
Я пишу эти строки острым пёрышком, которое тщательно прячу в подоле моей белой ночной рубашки, и чернилами — их я храню под деревянными досками пола. Пишу на листках бумаги, которые ношу на теле, за поясом, сшитым специально для случаев, когда приходится брать их с собой, и кладу ближе к сердцу, под серую тунику, такую, как прежде носили жившие здесь мужчины. Мы считаем, что это были священники, монахи, люди религиозные. Мужчины-аскеты, решившие существовать как в средние века. Они уже мертвецы, хотя некоторые утверждают, что их можно заметить краем глаза в темноте. Говорят, что, когда они явились с выжженной земли, из рухнувшего мира, ни Он, ни Сестра-Настоятельница не смогли найти у них ни мобильных телефонов, ни ноутбуков.
Роман «Нечестивицы» Агустины Бастеррики (Inspiria) – одной из самых знаменитых аргентинских писательниц – производит сильное впечатление. Это очень короткий, очень плотный текст, который, кажется, написан как будто одним куском, одним большим усилием. Бастеррика рассказывает о мире, пережившем апокалипсис, и здесь все понятно – города уничтожены, техника не работает, на дворе Средневековье, а вернее, все еще хуже. Но что отличается от привычного набора, так это конкретное место действия. Писательница рассказывает о монастыре, где живут последовательницы нового (и жестокого, конечно) религиозного культа.
Монастырем, в котором находятся только женщины, заправляет Сестра-Настоятельница. Она носит в руке хлыст и, не тратя время на долгие прелюдии, любит сразу переходить к делу, то есть к наказаниям. Главнее (да и страшнее) мучительницы только Он – то есть новоявленный Бог, который живет в потайных комнатах монастыря. Его никто не видел, зато все регулярно слышат – на частых проповедях, тема которых примерно одна и та же: Бог объясняет обитательницам монастыря, почему все они «нечестивицы», и еще как они должны быть благодарны ему за кров. И, действительно, есть за что благодарить: хлеб из сверчковой муки по праздникам и регулярные мучения на завтрак, обед и ужин без перерывов и выходных. Само общество «нечестивиц», при этом, разделено на классы: есть служанки, которых никто не считает за людей из-за «уродств», есть условно «средний класс», а есть «знать» – те, у кого обнаружили какой-нибудь странный дар и кому все завидуют. Правда, радоваться попаданию в первые ряды лично я бы не стал – плюсов почти никаких, зато пыток еще больше.
Обо всем этом мире нам рассказывает в своем дневнике главная героиня романа. Мы точно не понимаем ни сколько ей лет, ни как она выглядит. И еще мы не до конца уверены, что она не сошла с ума в этом ужасном месте (как сошел бы я) – и, соответственно, кто знает, может, большая часть описанного просто выдумка? При этом наша героиня – одна из немногих в монастыре, кто умеет читать и писать (этому ее научила давно умершая мать) и, собственно, сам акт ведения дневника становится для нее вызовом и Сестре-Настоятельнице, и всевидящему Богу, и даже самой смерти.
Целые дни мы провели на крыше нашего дома в ожидании, когда утихнет стихия, мы плакали при виде наших друзей, проплывающих мимо в грязной воде: Лиспектор, Моррисон, Окампо, Саер, Вульф, Дюра, О’Коннор на напитавшихся влагой бесполезных картонках. Но слова застревали во мне, те самые слова, которые мама настойчиво призывала меня любить, хотя я их не понимала; происходили сдвиги грунта; приближались торнадо; скорость ветра превышала сто километров в час; падали деревья; животные необъяснимо бродили кругами целые недели и месяцы, пока не сходили с ума от истощения и не умирали; город разрушился; град камней размером с фрукты падал с неба с грохотом бомб, ледяные снаряды пробивали хрупкую завесу цивилизации, посевы гибли; установилась невыносимая жара, и рыбы заживо варились в кипящем море, а в пересохших реках погибали от жажды.
#книги
Роман «Нечестивицы» Агустины Бастеррики (Inspiria) – одной из самых знаменитых аргентинских писательниц – производит сильное впечатление. Это очень короткий, очень плотный текст, который, кажется, написан как будто одним куском, одним большим усилием. Бастеррика рассказывает о мире, пережившем апокалипсис, и здесь все понятно – города уничтожены, техника не работает, на дворе Средневековье, а вернее, все еще хуже. Но что отличается от привычного набора, так это конкретное место действия. Писательница рассказывает о монастыре, где живут последовательницы нового (и жестокого, конечно) религиозного культа.
Монастырем, в котором находятся только женщины, заправляет Сестра-Настоятельница. Она носит в руке хлыст и, не тратя время на долгие прелюдии, любит сразу переходить к делу, то есть к наказаниям. Главнее (да и страшнее) мучительницы только Он – то есть новоявленный Бог, который живет в потайных комнатах монастыря. Его никто не видел, зато все регулярно слышат – на частых проповедях, тема которых примерно одна и та же: Бог объясняет обитательницам монастыря, почему все они «нечестивицы», и еще как они должны быть благодарны ему за кров. И, действительно, есть за что благодарить: хлеб из сверчковой муки по праздникам и регулярные мучения на завтрак, обед и ужин без перерывов и выходных. Само общество «нечестивиц», при этом, разделено на классы: есть служанки, которых никто не считает за людей из-за «уродств», есть условно «средний класс», а есть «знать» – те, у кого обнаружили какой-нибудь странный дар и кому все завидуют. Правда, радоваться попаданию в первые ряды лично я бы не стал – плюсов почти никаких, зато пыток еще больше.
Обо всем этом мире нам рассказывает в своем дневнике главная героиня романа. Мы точно не понимаем ни сколько ей лет, ни как она выглядит. И еще мы не до конца уверены, что она не сошла с ума в этом ужасном месте (как сошел бы я) – и, соответственно, кто знает, может, большая часть описанного просто выдумка? При этом наша героиня – одна из немногих в монастыре, кто умеет читать и писать (этому ее научила давно умершая мать) и, собственно, сам акт ведения дневника становится для нее вызовом и Сестре-Настоятельнице, и всевидящему Богу, и даже самой смерти.
Целые дни мы провели на крыше нашего дома в ожидании, когда утихнет стихия, мы плакали при виде наших друзей, проплывающих мимо в грязной воде: Лиспектор, Моррисон, Окампо, Саер, Вульф, Дюра, О’Коннор на напитавшихся влагой бесполезных картонках. Но слова застревали во мне, те самые слова, которые мама настойчиво призывала меня любить, хотя я их не понимала; происходили сдвиги грунта; приближались торнадо; скорость ветра превышала сто километров в час; падали деревья; животные необъяснимо бродили кругами целые недели и месяцы, пока не сходили с ума от истощения и не умирали; город разрушился; град камней размером с фрукты падал с неба с грохотом бомб, ледяные снаряды пробивали хрупкую завесу цивилизации, посевы гибли; установилась невыносимая жара, и рыбы заживо варились в кипящем море, а в пересохших реках погибали от жажды.
#книги
❤17👍2🔥1😱1
Вообще, роман одновременно пугает – и завораживает. В нем очень много страха – на котором и держится весь этот монастырь и этот Бог вместе с Сестрой-Настоятельницей – и очень много любви: к слову, через которое героиня осознает себя, к дикой кошке Цирцее, наконец, к другому человеку. И, конечно, любовь в романе Бастеррики – не та, сказочная, что победит смерть и отменит апокалипсис – хотя… кто знает. Может, даже и так.
Для меня две самые мощные универсальные энергии, — говорит Агустина Бастеррика в одном из интервью, — это страх и любовь. Страх, если вдуматься, — это первичное, атавистическое чувство, которое тоже нам необходимо. Потому что, не знаю, если ты не боишься, то просто позволишь себя съесть какой-нибудь пантере... [смеется]. Но от страха возникают и многие негативные чувства. Скажем, насилие – это страх потерять контроль, зависть – это страх не иметь то, что есть у другого. В некоторых случаях вы можете думать об этом так. С другой стороны, любовь предстает [в романе] как жизненная энергия, а не просто как романтическое чувство. Я верю, что любовь объединяет и индивидуализирует, а ненависть — разделяет и обобщает.
Ну, что к этому добавить. Все правильно говорите, Агустина, все правильно.
Для меня две самые мощные универсальные энергии, — говорит Агустина Бастеррика в одном из интервью, — это страх и любовь. Страх, если вдуматься, — это первичное, атавистическое чувство, которое тоже нам необходимо. Потому что, не знаю, если ты не боишься, то просто позволишь себя съесть какой-нибудь пантере... [смеется]. Но от страха возникают и многие негативные чувства. Скажем, насилие – это страх потерять контроль, зависть – это страх не иметь то, что есть у другого. В некоторых случаях вы можете думать об этом так. С другой стороны, любовь предстает [в романе] как жизненная энергия, а не просто как романтическое чувство. Я верю, что любовь объединяет и индивидуализирует, а ненависть — разделяет и обобщает.
Ну, что к этому добавить. Все правильно говорите, Агустина, все правильно.
❤26
Роман Оливье Адана «Под розами» (Corpus) – который скорее пьеса и только прикидывается романом – вызвал у меня смешанные чувства. С одной стороны, я очень люблю камерные истории, построенные на семейных драмах, причем как в литературе, так и в кино. И поэтому, например, всегда готов смотреть фильмы в духе «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана с Гаспаром Ульелем (💔) в главной роли. С другой стороны, в таких работах есть довольно тонкая грань, увидеть которую сложно, а вот перейти – легче легкого: это когда в погоне за эффектными диалогами и меткими фразами автор так далеко уходит от жизни, что действие становится слишком искусственным и слишком книжным.
Действие романа происходит в небольшом доме во французском пригороде. На похороны отца съезжаются дети: Клер, Антуан и Поль. Понятное дело, проблемы у них не только с собственной жизнью, но и в отношениях друг с другом. Только мать рада каждому ребенку без исключения.
Антуан – младший из братьев, он, что называется, делец. Хорошо зарабатывает, импульсивен и раним. У него скоро будет ребенок, но не от той женщины, от которой он бы хотел. Клер – сестра, старающаяся всех понять. У нее кризис в браке и она подумывает уйти от мужа, только вот ее любовник все тянет и тянет, и не торопится расставаться с женой. Наконец, Поль – режиссер, тонкая натура, одинокий и не очень понятый окружением (да и самим собой тоже) человек. Он давно порвал отношения с отцом, но все же не может проигнорировать похороны.
Вся книга – рассказ о нескольких днях из жизни этой частично разрушенной семьи. Антуан ругается с Полем, Клер пытается понять, на чью стороны встать в этом конфликте, а мать лишь печально разводит руками, глядя на происходящее. В то же время, порой желание поскандалить отпускает братьев и сестру, и тогда они, угомонившись, начинают вспоминать детство.
Я встала. Малышка тяжело повисла у меня на руках. Размягченные алкоголем ноги слегка заплетались. Я пошла к лестнице. Как я ни старалась, каждая ступенька отзывалась скрипом, и в голове на миг мелькнула мысль: «Черт, папу разбужу, опять разорется». А потом я вспомнила, что он умер и что завтра похороны.
Пожалуй, лучшие страницы книги посвящены именно детству – и тому, какими непохожими могут быть воспоминания у детей, росших в одной семье, но с разницей в возрасте. Кажется, только эта тема по-настоящему волновала автора, когда он работал над книгой: он верно заметил, что родители с ходом временем сами меняются, так что к третьему ребенку они уже не те, что были, скажем, когда родился первенец. Адан показывает, насколько различными могут быть воспоминания детей не только о родителях, но даже о конкретных моментах, проведенных вместе с братьями и сестрами.
С учетом всего хорошего, что есть (и могло бы быть) в книге, становится лишь обиднее, что герои Адана так часто превращаются из объемных персонажей со своими историями и конфликтами – в спорящие голоса в голове автора. Неправдоподобно пышные монологи, концентрация сложных (и вместе с тем до ужаса банальных) проблем на пространстве одного квадратного метра текста, неловкая попытка в финале превратить саму ткань жизни в пьесу – все это разочаровывает, хотя и, конечно, не до конца убивает книгу.
В общем, о потраченном времени не жалею, но все же хотелось чего-то большего.
#книги
Действие романа происходит в небольшом доме во французском пригороде. На похороны отца съезжаются дети: Клер, Антуан и Поль. Понятное дело, проблемы у них не только с собственной жизнью, но и в отношениях друг с другом. Только мать рада каждому ребенку без исключения.
Антуан – младший из братьев, он, что называется, делец. Хорошо зарабатывает, импульсивен и раним. У него скоро будет ребенок, но не от той женщины, от которой он бы хотел. Клер – сестра, старающаяся всех понять. У нее кризис в браке и она подумывает уйти от мужа, только вот ее любовник все тянет и тянет, и не торопится расставаться с женой. Наконец, Поль – режиссер, тонкая натура, одинокий и не очень понятый окружением (да и самим собой тоже) человек. Он давно порвал отношения с отцом, но все же не может проигнорировать похороны.
Вся книга – рассказ о нескольких днях из жизни этой частично разрушенной семьи. Антуан ругается с Полем, Клер пытается понять, на чью стороны встать в этом конфликте, а мать лишь печально разводит руками, глядя на происходящее. В то же время, порой желание поскандалить отпускает братьев и сестру, и тогда они, угомонившись, начинают вспоминать детство.
Я встала. Малышка тяжело повисла у меня на руках. Размягченные алкоголем ноги слегка заплетались. Я пошла к лестнице. Как я ни старалась, каждая ступенька отзывалась скрипом, и в голове на миг мелькнула мысль: «Черт, папу разбужу, опять разорется». А потом я вспомнила, что он умер и что завтра похороны.
Пожалуй, лучшие страницы книги посвящены именно детству – и тому, какими непохожими могут быть воспоминания у детей, росших в одной семье, но с разницей в возрасте. Кажется, только эта тема по-настоящему волновала автора, когда он работал над книгой: он верно заметил, что родители с ходом временем сами меняются, так что к третьему ребенку они уже не те, что были, скажем, когда родился первенец. Адан показывает, насколько различными могут быть воспоминания детей не только о родителях, но даже о конкретных моментах, проведенных вместе с братьями и сестрами.
С учетом всего хорошего, что есть (и могло бы быть) в книге, становится лишь обиднее, что герои Адана так часто превращаются из объемных персонажей со своими историями и конфликтами – в спорящие голоса в голове автора. Неправдоподобно пышные монологи, концентрация сложных (и вместе с тем до ужаса банальных) проблем на пространстве одного квадратного метра текста, неловкая попытка в финале превратить саму ткань жизни в пьесу – все это разочаровывает, хотя и, конечно, не до конца убивает книгу.
В общем, о потраченном времени не жалею, но все же хотелось чего-то большего.
#книги
❤11👍4
Мать покачала головой. Завтра она обязательно должна с нами попрощаться. И приготовить нам завтрак. Она все равно поставит будильник. Спорить было бесполезно. Я сказала: “Окей, мама, мы не уедем не попрощавшись”, и припомнила все те утра, когда она из-за нас вставала, хотя в этом уже не было нужды — мы уже выросли. Она всегда ставила будильник, спускалась на кухню, следила, чтобы все встали вовремя, готовила чай, кофе, шоколад, резала хлеб, ставила на стол масло и джем, проверяла, тепло ли мы оделись, не опаздываем ли, не забыли ли чего-нибудь. Рюкзак, ключи, билетики на автобус, деньги, пропуска, запасные блоки к тетрадям, учебники. Смотрела, как мы уходим один за другим. Потом оставалась одна в притихшем доме. Что она тогда делала? Сразу начинала убирать со стола, протирать его губкой, подметать упавшие на пол крошки? Включала радио? Или телевизор? Или пила еще кофе, глядя в окно? Или за столом, листая журнал? Что такое была ее жизнь, когда нас не было дома? В сущности, мы знали мать только как мать. И кому, как не мне теперешней, понимать, насколько этого мало.
💔16👍4
Вот, к слову: в Аргентине, как и в ряде латиноамериканских стран, девушки на равных с парнями являются инициаторами свиданий. Также для парня норма скорее предложить девушке записать его номер телефона, чтобы та уже решила, писать ему или нет.
И вот мы с подругой недавно обсуждали, что трудно представить себе такой мем (и его очень часто встречающиеся здесь вариации) в России. Перевод примерно такой:
Она: Хей, привет, помнишь меня? Я тут раздобыла твой телефончик, ты что делаешь завтра?
Он: Меняю номер.
И вот мы с подругой недавно обсуждали, что трудно представить себе такой мем (и его очень часто встречающиеся здесь вариации) в России. Перевод примерно такой:
Она: Хей, привет, помнишь меня? Я тут раздобыла твой телефончик, ты что делаешь завтра?
Он: Меняю номер.
😁33🤯2
Короче, решил я тут купить себе тапки.
- Ну, так в чем проблема, - спросите вы.
- Я в Аргентине, - отвечу я.
Любая одежда и обувь, пусть даже домашняя, здесь стоит либо дорого, либо рвется, распадается на нитки, волокна и атомы прямо при выходе из магазина. Впрочем, иногда бывает бинго, и так себя ведет даже дорогая одежда. Так что купить нормальные тапки – задача со звездочкой, как вы поняли, к тому же, я никуда особо не хожу, кроме как в супермаркет Кото. Но порой мне везет, и вот по пути туда я обнаружил целый магазинчик с тапками (да, тут есть магазинчики, специализирующиеся на чем-то одном). Как хорошо, - подумал я, когда проходил мимо него с набитой продуктами сумкой, - в следующий раз обязательно зайду.
Следующего раза, впрочем, пришлось ждать долго. Главным образом потому, что магазинчики в Аргентине работают так, как бог на душу положит. Вот, например, этот конкретный - с 10 до 12 и с 16 до 18, и то не во все дни, а когда захочется. И эти временные периоды - ровно те, когда я либо работаю, либо учу испанский, либо опять работаю (и плачу). Почему же магазинчик не работает нормально, спросите вы. Потому что ну а зачем, отвечу я. К тому же, в те редкие случаи, когда мы с магазинчиком совпадали по биоритмам, я все наличные тратил в Кото, потому что невозможно (правда – невозможно) взять с собой столько денег, чтобы хватило на все. А карточки тут не так чтобы везде работают, да и класть на нее деньги – отдельная история.
В общем, так я ходил и поглядывал на понравившийся мне тапок (один) в витрине примерно месяц. Оцените масштаб задачи и мои навыки держать цель в поле зрения. И вот, наконец, пару недель назад мне повезло. Мои биоритмы совпали с биоритмами продавщицы тапок, хвала всем святым, и у меня в кармане даже остались не потраченные на мусорные мешки деньги.
Я захожу в магазинчик, говорю, дайте мне вон те тапки! Продавщица радостно (еще бы, при таком-то графике работы нашелся покупатель), приносит мне правый тапок и говорит – меряйте, если подойдет, я с витрины достану левый.
Меряю. Все подходит.
- Беру! – говорю я. – Несите же скорее второй!
А второй тапок, как мы помним, на витрине. И подобраться к нему не так легко, это целая задача, вызов, я бы даже сказал. Далеко тянуться да и вообще. Ну, или можно еще открыть витрину ключом, как вариант. Продавщица пыхтит и так и эдак, потом уходит за шваброй, чтобы с его помощью подцепить это глупый тапок. Возвращается. Нет, не удается подцепить. А ничего длиннее швабры в магазинчике нет.
Я в изумлении, продавщица размышляет над задачей. Всплескивает руками и говорит:
- Знаете, чика у которой ключи от витрины работает по другому графику. Во второй половине дня. А без нее я достать не могу этот ваш тапок, знаете. Приходите сегодня попозже, ми амор.
Как вы догадываетесь, попозже я не пришел, потому что наши биоритмы с чикой с ключами расходятся еще сильнее, чем мои биоритмы с первой продавщицей.
Так прошла неделя. Потом еще одна, в Аргентине наступила зима. Каким-то чудом я второй раз за короткий срок оказываюсь у магазинчика в нужное время. Захожу с нескрываемой радостью, говорю:
- Ну вот он я, вот мои деньги, дайте же мне этот тапок!! – я буквально сиял от счастья, правда, никогда не думал что потенциальное обладание новыми тапками может принести мне столько удовольствия.
Чика с ключами, впечатленная моим энтузиазмом, лезет за левым тапком, достает его, кладет на прилавок.
- Ну что ж, а сейчас я пойду искать правый, не будете же вы покупать один, верно?
- С этим, конечно, сложно поспорить, - говорю я.
В общем, она уходит искать правый тапок, я отсчитываю деньги (какая самонадеянность), и через минут 5 чика с ключами возвращается в одиночестве, то есть без моего правого тапка.
- Где тапок, - спрашиваю я.
- На складе, - пожимает плечами девушка. - А ключ от склада у моей коллеги, которая работает в утреннюю смену.
Я смотрю на девушку, стоя в одном тапке.
- Буена суерте, ми амор, приходите завтра! – радостно говорит мне девушка, - Пока-пока, мы закрываемся, я тороплюсь!
- Сейчас, сейчас, моя хорошая, я уже ухожу, - говорю я.
#аргентина
- Ну, так в чем проблема, - спросите вы.
- Я в Аргентине, - отвечу я.
Любая одежда и обувь, пусть даже домашняя, здесь стоит либо дорого, либо рвется, распадается на нитки, волокна и атомы прямо при выходе из магазина. Впрочем, иногда бывает бинго, и так себя ведет даже дорогая одежда. Так что купить нормальные тапки – задача со звездочкой, как вы поняли, к тому же, я никуда особо не хожу, кроме как в супермаркет Кото. Но порой мне везет, и вот по пути туда я обнаружил целый магазинчик с тапками (да, тут есть магазинчики, специализирующиеся на чем-то одном). Как хорошо, - подумал я, когда проходил мимо него с набитой продуктами сумкой, - в следующий раз обязательно зайду.
Следующего раза, впрочем, пришлось ждать долго. Главным образом потому, что магазинчики в Аргентине работают так, как бог на душу положит. Вот, например, этот конкретный - с 10 до 12 и с 16 до 18, и то не во все дни, а когда захочется. И эти временные периоды - ровно те, когда я либо работаю, либо учу испанский, либо опять работаю (и плачу). Почему же магазинчик не работает нормально, спросите вы. Потому что ну а зачем, отвечу я. К тому же, в те редкие случаи, когда мы с магазинчиком совпадали по биоритмам, я все наличные тратил в Кото, потому что невозможно (правда – невозможно) взять с собой столько денег, чтобы хватило на все. А карточки тут не так чтобы везде работают, да и класть на нее деньги – отдельная история.
В общем, так я ходил и поглядывал на понравившийся мне тапок (один) в витрине примерно месяц. Оцените масштаб задачи и мои навыки держать цель в поле зрения. И вот, наконец, пару недель назад мне повезло. Мои биоритмы совпали с биоритмами продавщицы тапок, хвала всем святым, и у меня в кармане даже остались не потраченные на мусорные мешки деньги.
Я захожу в магазинчик, говорю, дайте мне вон те тапки! Продавщица радостно (еще бы, при таком-то графике работы нашелся покупатель), приносит мне правый тапок и говорит – меряйте, если подойдет, я с витрины достану левый.
Меряю. Все подходит.
- Беру! – говорю я. – Несите же скорее второй!
А второй тапок, как мы помним, на витрине. И подобраться к нему не так легко, это целая задача, вызов, я бы даже сказал. Далеко тянуться да и вообще. Ну, или можно еще открыть витрину ключом, как вариант. Продавщица пыхтит и так и эдак, потом уходит за шваброй, чтобы с его помощью подцепить это глупый тапок. Возвращается. Нет, не удается подцепить. А ничего длиннее швабры в магазинчике нет.
Я в изумлении, продавщица размышляет над задачей. Всплескивает руками и говорит:
- Знаете, чика у которой ключи от витрины работает по другому графику. Во второй половине дня. А без нее я достать не могу этот ваш тапок, знаете. Приходите сегодня попозже, ми амор.
Как вы догадываетесь, попозже я не пришел, потому что наши биоритмы с чикой с ключами расходятся еще сильнее, чем мои биоритмы с первой продавщицей.
Так прошла неделя. Потом еще одна, в Аргентине наступила зима. Каким-то чудом я второй раз за короткий срок оказываюсь у магазинчика в нужное время. Захожу с нескрываемой радостью, говорю:
- Ну вот он я, вот мои деньги, дайте же мне этот тапок!! – я буквально сиял от счастья, правда, никогда не думал что потенциальное обладание новыми тапками может принести мне столько удовольствия.
Чика с ключами, впечатленная моим энтузиазмом, лезет за левым тапком, достает его, кладет на прилавок.
- Ну что ж, а сейчас я пойду искать правый, не будете же вы покупать один, верно?
- С этим, конечно, сложно поспорить, - говорю я.
В общем, она уходит искать правый тапок, я отсчитываю деньги (какая самонадеянность), и через минут 5 чика с ключами возвращается в одиночестве, то есть без моего правого тапка.
- Где тапок, - спрашиваю я.
- На складе, - пожимает плечами девушка. - А ключ от склада у моей коллеги, которая работает в утреннюю смену.
Я смотрю на девушку, стоя в одном тапке.
- Буена суерте, ми амор, приходите завтра! – радостно говорит мне девушка, - Пока-пока, мы закрываемся, я тороплюсь!
- Сейчас, сейчас, моя хорошая, я уже ухожу, - говорю я.
#аргентина
😁64💔16😱11❤7👍3
Прочитал «Искупление» (Inspiria) Канаэ Минато, у которой был очень хороший роман «Признания» – о школьной учительнице, мстившей своим ученикам за убийство дочери. «Искупление» также строится вокруг смерти ребенка. По сюжету, однажды незнакомец подходит к пятерым девочкам на территории школы. Они играли в мяч, а он, представившись ремонтником, просит одну из них помочь ему что-то починить в здании. Девочка соглашается, а через пару часов подруги находят ее тело в раздевалке. Казалось бы, найти преступника будет нетрудно, ведь городок маленький и есть целых четыре свидетеля, вернее, свидетельницы. Однако никто из девочек не может вспомнить лицо преступника. Отчаявшаяся мать угрожает отомстить подругам дочери, считая, что они из какого-то умысла (или невообразимой глупости) не хотят выдавать преступника – и на том уезжает вместе с мужем из города. Это убийство – и угрозы, конечно, – отразятся на жизни каждой из девочек, и об этих последствиях и рассказывает Минато.
Вообще, завязка сюжета – единственное, что выглядит в романе правдоподобно. Истории самих девочек (и матери) настолько невероятны и нереалистичны даже для меня, очень доверчивого читателя, что я могу сравнить их разве что с моим любимым телепроектом «Скелет в шкафу». Давным-давно он шел по НТВ и на мозг производил примерно тот же эффект, что двойной гамбургер с картошечкой – на желудок. Очень вредно, очень жирно, но не оторваться, дайте еще. Точно так же с «Искуплением», на самом деле. Я читал, постоянно комментируя текст про себя: боже, ну нет, не может быть, чтобы писательница всерьез вот это все сейчас мне рассказывала! И сам же себя перебивал: окей, окей, а что будет дальше, чем эта немыслимая драма в духе индийского кино закончится? Думаю, дело здесь не только в моем дурном вкусе (хотя не без этого), но и в том, что Минато просто великолепная рассказчица, умеющая увлекать читателя по щелчку пальцев.
Так что если вы соскучились пофастфуду романам с невероятно драматическими поворотами сюжета (и судьбы героев), милости прошу – получите удовольствие.
#книги
Вообще, завязка сюжета – единственное, что выглядит в романе правдоподобно. Истории самих девочек (и матери) настолько невероятны и нереалистичны даже для меня, очень доверчивого читателя, что я могу сравнить их разве что с моим любимым телепроектом «Скелет в шкафу». Давным-давно он шел по НТВ и на мозг производил примерно тот же эффект, что двойной гамбургер с картошечкой – на желудок. Очень вредно, очень жирно, но не оторваться, дайте еще. Точно так же с «Искуплением», на самом деле. Я читал, постоянно комментируя текст про себя: боже, ну нет, не может быть, чтобы писательница всерьез вот это все сейчас мне рассказывала! И сам же себя перебивал: окей, окей, а что будет дальше, чем эта немыслимая драма в духе индийского кино закончится? Думаю, дело здесь не только в моем дурном вкусе (хотя не без этого), но и в том, что Минато просто великолепная рассказчица, умеющая увлекать читателя по щелчку пальцев.
Так что если вы соскучились по
#книги
❤25👍1
Прочитал очень хороший роман «Пустые дома» Бренды Наварро, который вот-вот выйдет в издательстве Livebook.
Наварро – мексиканская писательница, живущая в Испании. «Пустые дома» ее дебютный роман, который она написала как бы на спор – хотела доказать самой себе, что может создать что-то длиннее рассказа. И хотя «Пустые дома» по старым меркам тянут скорее на длинную повесть (всего 180 страниц), все же будем считать, что это именно роман – к тому же, роман удачный.
История происходит в Мексике. Однажды у довольно обеспеченной женщины (впрочем, не сказочно богатой, а, так, из среднего класса) пропадает во время прогулки ребенок. Пока он играл на площадке, героиня отвлеклась на сообщение от любовника, и в этот момент Даниэль исчез. Как мы узнаем дальше, он не просто исчез, его украла вторая героиня – девушка из бедных городских предместий. Она страстно хотела стать матерью, но ее сожитель (иначе не назвать) не хотел ей этого ребенка делать.
Это завязка и, по сути, единственное (вплоть до финала) значительное событие в книге. Все остальное – рефлексия героинь о случившемся с небольшим рассказом о прошлом каждой из них. Так, мы узнаем, что Богатая Женщина должна против своего желания воспитывать дочь золовки, которую в Испании убил супруг. А про Бедную Женщину мы узнаем, что когда-то у нее был брат, но потом он погиб на стройке, и никто по этому поводу особо не расстроился (кроме нее, собственно).
В разных описаниях и рецензиях, которые я читал, двух героинь стараются противопоставить друг другу. Одна бедная, другая богатая. Одна хочет быть матерью, другая – напротив, не хочет. Этот взгляд на текст меня несколько удивляет. На самом деле, общего у героинь куда больше, чем того, что их отличает. Обе не очень понимают, зачем живут с тем партнером, с которым живут. У обеих героинь нет ни друзей, ни поддерживающих родственников. И они обе, на самом деле, не думают о сыне, как о субъекте, – их волнует материнство, как идея, как роль (внушенная или нет), а не он сам. За весь роман мы толком о мальчике ничего не узнаем. Что он любил, а что не любил, какой у него был характер, привычки – все это остается за кадром. И хотя исчезновение Даниэля в книге – центральное событие, он, как человек, с самого начала и до конца остается невидимым.
(В этом смысле, текст отчасти напоминает «Нелюбовь» Звягинцева).
Зато мы видим, каким разрушительным для всех (для семьи, для детей, для самих женщин) может быть материнство, лишенное осмысленности. Богатая Женщина с чего-то решила, что ребенок поможет ей наладить жизнь с мужем, а самое главное, что он сделает ее чуточку лучше и, если хотите, нормальнее. К сыну она начала относиться двояко (если так можно сказать) уже во время беременности – с одной стороны, она ждала ребенка, с другой, ненавидела, как инородное тело, растущее в ней. Эти противоречивые чувства будут с героиней весь роман: даже когда мальчика похитят, она будет инстинктивно по нему страдать – и его же ненавидеть. За свою разрушенную жизнь и за напрасные муки.
Что же до Бедной Женщины, то материнство в ее глазах было тем единственным, что могло наполнить ее жизнь если не счастьем, то смыслом. Ради семьи, «нормально» укомплектованной (пусть и украденным ребенком), будет резон терпеть партнера, который ее избивает, будет повод утереть нос собственной матери (я-то получше родитель, чем ты!), ну и так далее, и тому подобное. Ясное дело, мать из нее вышла не сильно лучше, чем из Богатой Женщины: как и соперница, ребенка она не замечала, пусть даже и считала, что страстно и самозабвенно его любила. Что сказать, такое бывает, конечно.
#книги
Наварро – мексиканская писательница, живущая в Испании. «Пустые дома» ее дебютный роман, который она написала как бы на спор – хотела доказать самой себе, что может создать что-то длиннее рассказа. И хотя «Пустые дома» по старым меркам тянут скорее на длинную повесть (всего 180 страниц), все же будем считать, что это именно роман – к тому же, роман удачный.
История происходит в Мексике. Однажды у довольно обеспеченной женщины (впрочем, не сказочно богатой, а, так, из среднего класса) пропадает во время прогулки ребенок. Пока он играл на площадке, героиня отвлеклась на сообщение от любовника, и в этот момент Даниэль исчез. Как мы узнаем дальше, он не просто исчез, его украла вторая героиня – девушка из бедных городских предместий. Она страстно хотела стать матерью, но ее сожитель (иначе не назвать) не хотел ей этого ребенка делать.
Это завязка и, по сути, единственное (вплоть до финала) значительное событие в книге. Все остальное – рефлексия героинь о случившемся с небольшим рассказом о прошлом каждой из них. Так, мы узнаем, что Богатая Женщина должна против своего желания воспитывать дочь золовки, которую в Испании убил супруг. А про Бедную Женщину мы узнаем, что когда-то у нее был брат, но потом он погиб на стройке, и никто по этому поводу особо не расстроился (кроме нее, собственно).
В разных описаниях и рецензиях, которые я читал, двух героинь стараются противопоставить друг другу. Одна бедная, другая богатая. Одна хочет быть матерью, другая – напротив, не хочет. Этот взгляд на текст меня несколько удивляет. На самом деле, общего у героинь куда больше, чем того, что их отличает. Обе не очень понимают, зачем живут с тем партнером, с которым живут. У обеих героинь нет ни друзей, ни поддерживающих родственников. И они обе, на самом деле, не думают о сыне, как о субъекте, – их волнует материнство, как идея, как роль (внушенная или нет), а не он сам. За весь роман мы толком о мальчике ничего не узнаем. Что он любил, а что не любил, какой у него был характер, привычки – все это остается за кадром. И хотя исчезновение Даниэля в книге – центральное событие, он, как человек, с самого начала и до конца остается невидимым.
(В этом смысле, текст отчасти напоминает «Нелюбовь» Звягинцева).
Зато мы видим, каким разрушительным для всех (для семьи, для детей, для самих женщин) может быть материнство, лишенное осмысленности. Богатая Женщина с чего-то решила, что ребенок поможет ей наладить жизнь с мужем, а самое главное, что он сделает ее чуточку лучше и, если хотите, нормальнее. К сыну она начала относиться двояко (если так можно сказать) уже во время беременности – с одной стороны, она ждала ребенка, с другой, ненавидела, как инородное тело, растущее в ней. Эти противоречивые чувства будут с героиней весь роман: даже когда мальчика похитят, она будет инстинктивно по нему страдать – и его же ненавидеть. За свою разрушенную жизнь и за напрасные муки.
Что же до Бедной Женщины, то материнство в ее глазах было тем единственным, что могло наполнить ее жизнь если не счастьем, то смыслом. Ради семьи, «нормально» укомплектованной (пусть и украденным ребенком), будет резон терпеть партнера, который ее избивает, будет повод утереть нос собственной матери (я-то получше родитель, чем ты!), ну и так далее, и тому подобное. Ясное дело, мать из нее вышла не сильно лучше, чем из Богатой Женщины: как и соперница, ребенка она не замечала, пусть даже и считала, что страстно и самозабвенно его любила. Что сказать, такое бывает, конечно.
#книги
❤34👍10🔥3
С большим интересом прочитал тоскливое интервью Николая Иванова, председателя Союза писателей России, посвященное запуску новой Национальной литературной премии «Слово». Общий призовой фонд премии, кстати, 16 миллионов рублей, что по литературным меркам довольно щедро.
Вынесу несколько симпатичных цитат из интервью:
ЧТО читать - это сегодня вопрос не только и не столько досуга, сколько вопрос национального самосознания.
(Т.е. победителей наших читать никто не будет и это нормально, досуг читателей не наша забота).
Мы не диктуем, кому каких позиций придерживаться. Мы лишь говорим: если ты считаешь себя независимым от Родины, тогда ты не в контексте нашей Национальной литературной премии.
(Т.е. диктуем, диктуем).
Русская литература в лучшие свои времена не была плоской, и сегодня нам крайне необходимо показать весь литературный и духовный спектр нашего общества. Готовы читать всех, готовы со всеми разговаривать - серьезно и ответственно.
(См. цитату номер 2).
***
Ну а вообще, у меня только один вопрос к премии. Ну ладно, два.
Первый: почему у премии, которой судя по всему выделили немало денег, сайт страшный как моя жизнь? Неужели не нашлось дизайнера, закончившего хотя бы годичные курсы по специальности?
Второй: где женщины-то, а?)) Прозу «жюрят» аж 12 людей, из них женщин – ровно одна штука. Или за женщин отдувается Олег Рой, раз он пишет исключительно дамские романы? Или как? Та же самая история с жюри поэзии – на 12 человек нашлась только одна барышня. Ну как так-то, господа? Еще Сталин, между прочим, ваш патрон, говорил своим литературным работникам: ищите писательниц, награждайте их, включайте в жюри! Без фанатизма, но все же. И раз уж вы собираетесь возрождать «Большой стиль» (ох), то хотя бы о гендерном разнообразии не забудьте, даже в СССР с ним было получше, чем вот у вас сейчас.
Вынесу несколько симпатичных цитат из интервью:
ЧТО читать - это сегодня вопрос не только и не столько досуга, сколько вопрос национального самосознания.
(Т.е. победителей наших читать никто не будет и это нормально, досуг читателей не наша забота).
Мы не диктуем, кому каких позиций придерживаться. Мы лишь говорим: если ты считаешь себя независимым от Родины, тогда ты не в контексте нашей Национальной литературной премии.
(Т.е. диктуем, диктуем).
Русская литература в лучшие свои времена не была плоской, и сегодня нам крайне необходимо показать весь литературный и духовный спектр нашего общества. Готовы читать всех, готовы со всеми разговаривать - серьезно и ответственно.
(См. цитату номер 2).
***
Ну а вообще, у меня только один вопрос к премии. Ну ладно, два.
Первый: почему у премии, которой судя по всему выделили немало денег, сайт страшный как моя жизнь? Неужели не нашлось дизайнера, закончившего хотя бы годичные курсы по специальности?
Второй: где женщины-то, а?)) Прозу «жюрят» аж 12 людей, из них женщин – ровно одна штука. Или за женщин отдувается Олег Рой, раз он пишет исключительно дамские романы? Или как? Та же самая история с жюри поэзии – на 12 человек нашлась только одна барышня. Ну как так-то, господа? Еще Сталин, между прочим, ваш патрон, говорил своим литературным работникам: ищите писательниц, награждайте их, включайте в жюри! Без фанатизма, но все же. И раз уж вы собираетесь возрождать «Большой стиль» (ох), то хотя бы о гендерном разнообразии не забудьте, даже в СССР с ним было получше, чем вот у вас сейчас.
👍26🤯7😁1😢1
В издательстве «НЛО» выходит прелюбопытная книга Джулии Менситьери «Работа мечты». Она, собственно, о том, что идея «пусть сотрудник работает за еду и тем будет счастлив» популярна не только в многострадальной книжной индустрии, но и в модной. Как человек, работавший и в глянце, и в литературе (оцените как грамотно я умею выбирать себе денежные сферы для карьеры - обращайтесь за советом, как говорится, дам за недорого!) могу только подтвердить это и с сожалением констатировать, что пробниками духов, экземплярами книг или даже гениальной статьей об истории модного дома за ипотеку не заплатишь :)
Индустрия моды производит одежду и аксессуары, стоимость которых может достигать десятков тысяч евро, однако занятые в этой отрасли специалисты зачастую получают копейки или вовсе работают бесплатно — причем речь идет не только о ручном труде, но и о так называемых творческих профессиях.
Возьмем, к примеру, Рафа Симонса. В свой первый показ он захотел покрыть цветами стены частного особняка в фешенебельном квартале Парижа. Бренд использовал миллионы роз, лилий и орхидей, а на представление коллекции в исключительной обстановке потратил сотни тысяч евро. Событие освещали мировые СМИ, а фото и видео моделей, демонстрирующих роскошные наряды и уверенно рассекающих залы с цветущими стенами, распространились по всему свету. Но, несмотря на столь повышенное внимание, прочие аспекты мероприятия остались в тени. Большинство моделей работали практически бесплатно. А отдельные дизайнеры Dior, воплотившие идеи Рафа Симонса в костюмы, получали минимальную зарплату или немногим больше.
Подобные реалии — тоже мода, и именно о такой моде пойдет речь в этой книге: это мир, который производит роскошь и красоту за нищенскую зарплату или задаром. Мода в моем понимании — это Мия, фото-стилист, которая живет в гостиной в двухкомнатной квартирке в рабочем районе Парижа, но в любой день может оказаться во дворце в Гонконге, чтобы организовать частный показ для китайских миллионеров. Мода — это журналист, подобный Себастьяну, который, будучи главой авангардного и передового журнала моды, не платит фотографам, ассистентам по свету, моделям, фотостилистам, стажерам, ассистентам на площадке на показах, ретушерам, визажистам, парикмахерам, мастерам маникюра, которые создают образы, попадающие в печать.
#книги
Индустрия моды производит одежду и аксессуары, стоимость которых может достигать десятков тысяч евро, однако занятые в этой отрасли специалисты зачастую получают копейки или вовсе работают бесплатно — причем речь идет не только о ручном труде, но и о так называемых творческих профессиях.
Возьмем, к примеру, Рафа Симонса. В свой первый показ он захотел покрыть цветами стены частного особняка в фешенебельном квартале Парижа. Бренд использовал миллионы роз, лилий и орхидей, а на представление коллекции в исключительной обстановке потратил сотни тысяч евро. Событие освещали мировые СМИ, а фото и видео моделей, демонстрирующих роскошные наряды и уверенно рассекающих залы с цветущими стенами, распространились по всему свету. Но, несмотря на столь повышенное внимание, прочие аспекты мероприятия остались в тени. Большинство моделей работали практически бесплатно. А отдельные дизайнеры Dior, воплотившие идеи Рафа Симонса в костюмы, получали минимальную зарплату или немногим больше.
Подобные реалии — тоже мода, и именно о такой моде пойдет речь в этой книге: это мир, который производит роскошь и красоту за нищенскую зарплату или задаром. Мода в моем понимании — это Мия, фото-стилист, которая живет в гостиной в двухкомнатной квартирке в рабочем районе Парижа, но в любой день может оказаться во дворце в Гонконге, чтобы организовать частный показ для китайских миллионеров. Мода — это журналист, подобный Себастьяну, который, будучи главой авангардного и передового журнала моды, не платит фотографам, ассистентам по свету, моделям, фотостилистам, стажерам, ассистентам на площадке на показах, ретушерам, визажистам, парикмахерам, мастерам маникюра, которые создают образы, попадающие в печать.
#книги
🔥17👍7❤3