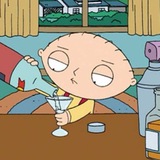Шарль Бодлер и Виктор Гюго были современниками. Для обоих поэзия значила очень много. Однако Гюго печатался огромными тиражами и получал большие гонорары. Бодлер же часто уходил ни с чем из редакций журналов, его рецензии не вызывали интереса, его лекции о литературе и искусстве посещали несколько человек. Гюго мог позволить себе годами писать один роман: его доходов хватало на безбедную жизнь. Бодлер же вынужден был постоянно искать источники заработка. Рано умерший Франсуа Бодлер, отец Шарля, оставил сыну солидное состояние, но тот, едва достигнув двадцати одного года, наделал множество долгов и заложил землю, чем вызвал негодование отчима и матери. Семья добилась установления опеки над Шарлем. С тех пор поэт стал несовершеннолетним в глазах закона и более не мог самостоятельно распоряжаться деньгами. Нотариус выдавал ему 200 франков в месяц, этой суммы едва хватало на еду, но не на книги, мебель и шелковые розовые перчатки, которые так обожал Бодлер.
Инна Дулькина написала прекрасный (как и всегда) текст для нашего блога о Шарле Бодлере и книге Антуана Компаньона "Лето с Бодлером", которая не так давно выходила в издательстве Ad Marginem. Очень рекомендую.
Инна Дулькина написала прекрасный (как и всегда) текст для нашего блога о Шарле Бодлере и книге Антуана Компаньона "Лето с Бодлером", которая не так давно выходила в издательстве Ad Marginem. Очень рекомендую.
storyport.online
«Лето с Бодлером»: каким предстает перед нами знаменитый французский поэт в книге Антуана Компаньона? — блог Storyport
Переводчица Инна Дулькина рассказывает о книге Антуана Компаньона «Лето с Бодлером», в которой знаменитого поэта, оказавшего значительное влияние на мировую литературу, мы увидим живым человеком: талантливым и безжалостным, бедным и непреклонным.
❤21
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Три года назад, то есть буквально в другой жизни, Алиса Ганиева написала для нашего блога отличный материал о Владимире Маяковском. И сегодня, раз уж у поэта юбилей, хочется вспомнить этот текст.
Владимир Маяковский — удивительный пример того, как восприятие большой литературной фигуры может перевернуться с ног на голову всего за одно столетие. Сто лет назад Маяковский — кузнец нового языка, ниспровергатель основ, революционер, эпатажник, экспериментатор, перформансист, эстрадник, суперзвезда. За ним носятся орды поклонников, подростки и студенты цитируют его стихи наизусть километрами, на его литературных выступлениях образуется такой ажиотаж и толкучка, что толпу приходится упорядочивать конной полиции!
И вот через век (спасибо советской школьной программе) Маяковский для многих — забронзовевший монумент, набивший оскомину классик, уступивший первый ряд литературного канона менее удачливым при жизни современникам.
Ну а если читать лень, то вот ролик, сделанный на основе этой статьи)
Владимир Маяковский — удивительный пример того, как восприятие большой литературной фигуры может перевернуться с ног на голову всего за одно столетие. Сто лет назад Маяковский — кузнец нового языка, ниспровергатель основ, революционер, эпатажник, экспериментатор, перформансист, эстрадник, суперзвезда. За ним носятся орды поклонников, подростки и студенты цитируют его стихи наизусть километрами, на его литературных выступлениях образуется такой ажиотаж и толкучка, что толпу приходится упорядочивать конной полиции!
И вот через век (спасибо советской школьной программе) Маяковский для многих — забронзовевший монумент, набивший оскомину классик, уступивший первый ряд литературного канона менее удачливым при жизни современникам.
Ну а если читать лень, то вот ролик, сделанный на основе этой статьи)
❤19
Если вы в Москве, то вот любопытный анонс: в «Иностранке» пройдёт фестиваль латиноамериканской культуры.
В программе - «цикл встреч, лекций, концертов, выставок, посвященных разным сторонам культуры, искусства и истории стран Латинской Америки и Карибского бассейна».
Кажется, это может быть интересно.
В программе - «цикл встреч, лекций, концертов, выставок, посвященных разным сторонам культуры, искусства и истории стран Латинской Америки и Карибского бассейна».
Кажется, это может быть интересно.
❤13
Пишут, что Вахтанговский театр опубликовал видеоверсию «Пер Гюнта» прекрасного Юрия Бутусова. Причем в хорошем качестве. Очень советую, если кто не видел.
(Да, многие считают, что конкретно этот спектакль ЮБ получился не до конца, и я, в общем, согласен с такими комментариями, но даже не самая сильная работа Бутусова - вещь все равно выдающаяся и заслуживающая внимания).
(Да, многие считают, что конкретно этот спектакль ЮБ получился не до конца, и я, в общем, согласен с такими комментариями, но даже не самая сильная работа Бутусова - вещь все равно выдающаяся и заслуживающая внимания).
🔥20❤5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вот, конечно, цинизм не знает границ, а отечественное кино по-прежнему остается важнейшим из искусств для товарища политрука.
Фильм "Свидетель" (скоро в кино)
Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 г. он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций (украинцев, конечно, добавлю я от себя). Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха.
Фильм "Свидетель" (скоро в кино)
Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 г. он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций (украинцев, конечно, добавлю я от себя). Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха.
🤬32😢6😱2❤1😁1
Если бы госпожа Бовари была не француженкой, а англичанкой, и писал бы о ней не жестокосердный Флобер (мужчина, заметим), а ироничная британская писательница начала XX века, то склянки с ядом в финале у героини точно бы не оказалось, а сама история получилась бы куда менее трагичной – и куда более остроумной.
Собственно, доказательство этому – «Дневник провинциальной дамы» Э. М. Делафилд. (Азбука-Аттикус @azbookaknigogoliki)
Главная героиня – англичанка из 1930-х, мать двоих детей, представительница, скажем так, нижних слоев зажиточного класса. Живет она отчего-то не в Лондоне, а в небольшой деревеньке, у нее неплохое образование, но немного глуповатый муж, у нее есть фамильные драгоценности, но также есть и неуменьшающаяся пачка писем из банка, в которых снова и снова ей напоминают о плачевном состоянии счета (не очень-то вежливо писать такие письма даме). У нее есть кухарка и гувернантка, но по хозяйству столько дел, что она все равно ничего не успевает, да и как все успеть, когда ни доставки нет, ни интернета, и каждый день приходится писать десяток писем – учителям детей, мяснику, в агентство садовников, швее… Да еще и цветы растут не там и не те, платья выходят из моды, а на новые денег нет, а ведь к платью нужна еще и шляпка, потому как без шляпки нельзя. В общем, жизнь сложна, и наша героиня отлично это знает, не хуже, чем та самая Бовари.
Обычность своей жизни наша героиня понимает и, в общем, принимает, потому как это совершенно нормальная жизнь, которая в глубине души ей даже нравится, но все же, бывает, хочется как-то из этой обыденности вырваться. Тем более, что она знакома с интересными персонами, которые, кажется, ведут куда более насыщенную жизнь, чем она, ходят по балам, крутят романы, сверкают в свете, и так далее. И хотя сама она не хочет любовников (ну разве что только пофлиртовать), от вечеринок устает первой, а в богемной среде чувствует себя черной вороной среди белых пташек, все равно немножко обидно, что кто-то особенный, а ты как будто совсем нет.
Короче говоря, приходится соперничать со светскими дамами (ради себя самой, в первую очередь), но так как соперничать получается плохо, учитывая все вышесказанное, героиня наша решает – нет, не найти себе любовника, потому что ну как, скажите, наличие любовника сделает тебя особенной или поможет стать интересной персоной, – нет, она решает быть писательницей.
Не Писательницей с большой буквы, не создательницей Великих Романов, а просто автором дневника одной провинциальной дамы – чтобы записывать туда все интересное, что с ней происходит. А так как интересного, в литературном смысле, с ней ничего не происходит, а происходит просто жизнь, то и книга, получившаяся в итоге, говорит о нас с вами – обычных людях – куда больше, чем многие и многие Крупные Сочинения. Ну а совсем замечательной ее делает совершенно неповторимая интонация главной героини – любители тонкой английской иронии точно оценят ее по достоинству, я вот смеялся так, в голос, как никогда вообще не смеялся ни над какими книгами.
«Дневник провинциальной дамы» Э. М. Делафилд – это практически как пир во время чумы, только в хорошем смысле. Это первая книга за полтора года, которая напомнила мне, что нормальная жизнь вообще существует (по крайней мере, существовала где-то там), и что именно своей обыденностью (обыденными радостями и проблемами), она так особенно хороша.
Собственно, доказательство этому – «Дневник провинциальной дамы» Э. М. Делафилд. (Азбука-Аттикус @azbookaknigogoliki)
Главная героиня – англичанка из 1930-х, мать двоих детей, представительница, скажем так, нижних слоев зажиточного класса. Живет она отчего-то не в Лондоне, а в небольшой деревеньке, у нее неплохое образование, но немного глуповатый муж, у нее есть фамильные драгоценности, но также есть и неуменьшающаяся пачка писем из банка, в которых снова и снова ей напоминают о плачевном состоянии счета (не очень-то вежливо писать такие письма даме). У нее есть кухарка и гувернантка, но по хозяйству столько дел, что она все равно ничего не успевает, да и как все успеть, когда ни доставки нет, ни интернета, и каждый день приходится писать десяток писем – учителям детей, мяснику, в агентство садовников, швее… Да еще и цветы растут не там и не те, платья выходят из моды, а на новые денег нет, а ведь к платью нужна еще и шляпка, потому как без шляпки нельзя. В общем, жизнь сложна, и наша героиня отлично это знает, не хуже, чем та самая Бовари.
Обычность своей жизни наша героиня понимает и, в общем, принимает, потому как это совершенно нормальная жизнь, которая в глубине души ей даже нравится, но все же, бывает, хочется как-то из этой обыденности вырваться. Тем более, что она знакома с интересными персонами, которые, кажется, ведут куда более насыщенную жизнь, чем она, ходят по балам, крутят романы, сверкают в свете, и так далее. И хотя сама она не хочет любовников (ну разве что только пофлиртовать), от вечеринок устает первой, а в богемной среде чувствует себя черной вороной среди белых пташек, все равно немножко обидно, что кто-то особенный, а ты как будто совсем нет.
Короче говоря, приходится соперничать со светскими дамами (ради себя самой, в первую очередь), но так как соперничать получается плохо, учитывая все вышесказанное, героиня наша решает – нет, не найти себе любовника, потому что ну как, скажите, наличие любовника сделает тебя особенной или поможет стать интересной персоной, – нет, она решает быть писательницей.
Не Писательницей с большой буквы, не создательницей Великих Романов, а просто автором дневника одной провинциальной дамы – чтобы записывать туда все интересное, что с ней происходит. А так как интересного, в литературном смысле, с ней ничего не происходит, а происходит просто жизнь, то и книга, получившаяся в итоге, говорит о нас с вами – обычных людях – куда больше, чем многие и многие Крупные Сочинения. Ну а совсем замечательной ее делает совершенно неповторимая интонация главной героини – любители тонкой английской иронии точно оценят ее по достоинству, я вот смеялся так, в голос, как никогда вообще не смеялся ни над какими книгами.
«Дневник провинциальной дамы» Э. М. Делафилд – это практически как пир во время чумы, только в хорошем смысле. Это первая книга за полтора года, которая напомнила мне, что нормальная жизнь вообще существует (по крайней мере, существовала где-то там), и что именно своей обыденностью (обыденными радостями и проблемами), она так особенно хороша.
👍25❤16🔥7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Давно не рассказывал о выборах в Аргентине, а они приближаются.
Оппозиция (Juntos por el Cambio, Вместе за Перемены) выдвинула такой лозунг: Argentina Absurda. Кандидаты объясняют, как ненормальна Аргентина – бюрократия, коррупция, непомерные дотации и т.д. и т.п. Когда в стране трехзначная инфляция, трудно как-то излишне критиковать правительство.
Было интересно, какую линию защиты выберет правящий блок (Unión por la Patria, Союз за Родину). И вот, вчера они сформулировали ответ.
«Вы говорите, Аргентина – ненормальная страна?» – спрашивают в предвыборном ролике – «И правда, нормально ли это, что у нас бесплатное образование? Что люди в нашей стране голосуют и высказывают свое мнение? Что мы преодолеваем самые трудные проблемы (кадры с военной хунтой) и каждый раз становимся лишь сильнее? Что каждый, кто приезжает в нашу страну, чувствует здесь себя как дома, что мы дружелюбны и открыты?».
«Да, пожалуй, Аргентина – ненормальная страна. Аргентина – это удивительная родина».
Что ж, снимаю шляпу.
Оппозиция (Juntos por el Cambio, Вместе за Перемены) выдвинула такой лозунг: Argentina Absurda. Кандидаты объясняют, как ненормальна Аргентина – бюрократия, коррупция, непомерные дотации и т.д. и т.п. Когда в стране трехзначная инфляция, трудно как-то излишне критиковать правительство.
Было интересно, какую линию защиты выберет правящий блок (Unión por la Patria, Союз за Родину). И вот, вчера они сформулировали ответ.
«Вы говорите, Аргентина – ненормальная страна?» – спрашивают в предвыборном ролике – «И правда, нормально ли это, что у нас бесплатное образование? Что люди в нашей стране голосуют и высказывают свое мнение? Что мы преодолеваем самые трудные проблемы (кадры с военной хунтой) и каждый раз становимся лишь сильнее? Что каждый, кто приезжает в нашу страну, чувствует здесь себя как дома, что мы дружелюбны и открыты?».
«Да, пожалуй, Аргентина – ненормальная страна. Аргентина – это удивительная родина».
Что ж, снимаю шляпу.
👍22❤15🔥3😢1
Читаю очень хорошую книгу "Геометрия скорби" (Ad Marginem @admarginem) математика и профессора Йельского университета Майкла Фрейма.
"Разумеется, я любил папу не меньше, чем маму, а мамина смерть жгла меня долгие годы. Думаю, разница в том, что я успел привыкнуть к папиному уходу. Он не исчез так внезапно, как мама. В последние годы своей жизни папа уходил постепенно.
Сначала трудности с дыханием вынудили его оставить работу в мастерской. В какой-то момент он понял, что больше туда не войдет. Я тоже это понимал и страдал от необратимости такой ситуации. В этой мастерской мы с папой создали сотни разных вещей. Пока я не поступил в колледж, у меня была лаборатория в углу той мастерской. Когда я понял, что больше он не будет ничего мастерить, я вспомнил, чем мы с ним занимались: чинили соседскую газонокосилку, строгали рамки для картин и ящички, делали деревянные пазлы и машинки для соседских детишек. Я сосредоточился на поступках, а не на чувствах, представлял, как другие люди так же помогают соседям. Я увидел сделанное руками отца (иногда при моем участии) частью более широкой картины. И хотя отец уже никогда ничего не смастерит, движение «сосед помогает соседу», сама эта идея, которая была близка моему отцу, продолжает жить. Проекция в пространство «добрососедской помощи» облегчила мою скорбь, когда отец закрыл свою мастерскую.
Похожая, но более сильная боль поразила меня, когда отец продал дом. Мы с Линдой и Стивом там выросли. Он хранил столько чудесных воспоминаний. Вечерами трое детишек собирались вокруг матери; мама читала книжки, папа чистил и разрезал яблоки, а потом раздавал их по кругу. Море смеха, порой споры, иногда слезы. Сколько было историй, совместных ужинов, разговоров. И дом рос вместе с нами. Папа добавил к нему одну комнату, затем другую. Мама шила занавески и копалась в саду. Сама форма комнат, геометрия пространств была оболочкой нашей жизни. Потом мама умерла. А папа переехал в пансионат и продал дом. И это тоже было необратимо. Мы больше никогда не будем в нем жить. И эта утрата стала источником скорби. Пара, купившая дом, ждала своего первого ребенка. Они предложили цену сразу, как только впервые пришли на просмотр. Улучшения, сделанные моим отцом, были продуманными и надежными; отец был рад, ему польстило, что он так быстро получил хорошее предложение. Когда я разговаривал с папой сразу после продажи, он сказал, что дому нужна семья и что он счастлив от того, что в нем будет снова расти ребенок. Он был прав. Дабы умерить скорбь от потери нашего дома, надо спроецировать маленькие детали нашей жизни на жизнь другой семьи.
После папиной смерти, когда закончились душераздирающие похороны и отгремел двадцать первый выстрел салюта, исторгший из моих глаз невообразимые потоки горячих слез, я вспомнил о том, как мы справились со своей скорбью после потери мастерской, а потом и дома. Мы спроецировали ту скорбь в пространство мелких деталей и взаимодействий с другими людьми. Всё, что отец делал для других людей — помогал соседям с ремонтом, помогал в строительстве дома своим родным и друзьям, всегда был рад выслушать других и поделиться своими рассказами, — оставило отпечаток не только на тех людях, которым он помогал. Его дела, а также то, что мама готовила и шила для других, являли образец доброты и душевной щедрости. И всё это понемножку оказывало свое влияние на мир. Это и есть истинное наследие моих родителей. Их больше нет. Я никогда их больше не увижу, никогда не поговорю с ними. Но их неспешный, терпеливый и надежный труд помог людям найти верный путь. «Двигайся маленькими шажками», — говорил мне отец, когда я упирался в какую-либо проблему. Совершая маленькие шажки, они сделали мир прекраснее, чем он был до них. В самом деле, это лучшее, на что способен практически любой из нас".
"Разумеется, я любил папу не меньше, чем маму, а мамина смерть жгла меня долгие годы. Думаю, разница в том, что я успел привыкнуть к папиному уходу. Он не исчез так внезапно, как мама. В последние годы своей жизни папа уходил постепенно.
Сначала трудности с дыханием вынудили его оставить работу в мастерской. В какой-то момент он понял, что больше туда не войдет. Я тоже это понимал и страдал от необратимости такой ситуации. В этой мастерской мы с папой создали сотни разных вещей. Пока я не поступил в колледж, у меня была лаборатория в углу той мастерской. Когда я понял, что больше он не будет ничего мастерить, я вспомнил, чем мы с ним занимались: чинили соседскую газонокосилку, строгали рамки для картин и ящички, делали деревянные пазлы и машинки для соседских детишек. Я сосредоточился на поступках, а не на чувствах, представлял, как другие люди так же помогают соседям. Я увидел сделанное руками отца (иногда при моем участии) частью более широкой картины. И хотя отец уже никогда ничего не смастерит, движение «сосед помогает соседу», сама эта идея, которая была близка моему отцу, продолжает жить. Проекция в пространство «добрососедской помощи» облегчила мою скорбь, когда отец закрыл свою мастерскую.
Похожая, но более сильная боль поразила меня, когда отец продал дом. Мы с Линдой и Стивом там выросли. Он хранил столько чудесных воспоминаний. Вечерами трое детишек собирались вокруг матери; мама читала книжки, папа чистил и разрезал яблоки, а потом раздавал их по кругу. Море смеха, порой споры, иногда слезы. Сколько было историй, совместных ужинов, разговоров. И дом рос вместе с нами. Папа добавил к нему одну комнату, затем другую. Мама шила занавески и копалась в саду. Сама форма комнат, геометрия пространств была оболочкой нашей жизни. Потом мама умерла. А папа переехал в пансионат и продал дом. И это тоже было необратимо. Мы больше никогда не будем в нем жить. И эта утрата стала источником скорби. Пара, купившая дом, ждала своего первого ребенка. Они предложили цену сразу, как только впервые пришли на просмотр. Улучшения, сделанные моим отцом, были продуманными и надежными; отец был рад, ему польстило, что он так быстро получил хорошее предложение. Когда я разговаривал с папой сразу после продажи, он сказал, что дому нужна семья и что он счастлив от того, что в нем будет снова расти ребенок. Он был прав. Дабы умерить скорбь от потери нашего дома, надо спроецировать маленькие детали нашей жизни на жизнь другой семьи.
После папиной смерти, когда закончились душераздирающие похороны и отгремел двадцать первый выстрел салюта, исторгший из моих глаз невообразимые потоки горячих слез, я вспомнил о том, как мы справились со своей скорбью после потери мастерской, а потом и дома. Мы спроецировали ту скорбь в пространство мелких деталей и взаимодействий с другими людьми. Всё, что отец делал для других людей — помогал соседям с ремонтом, помогал в строительстве дома своим родным и друзьям, всегда был рад выслушать других и поделиться своими рассказами, — оставило отпечаток не только на тех людях, которым он помогал. Его дела, а также то, что мама готовила и шила для других, являли образец доброты и душевной щедрости. И всё это понемножку оказывало свое влияние на мир. Это и есть истинное наследие моих родителей. Их больше нет. Я никогда их больше не увижу, никогда не поговорю с ними. Но их неспешный, терпеливый и надежный труд помог людям найти верный путь. «Двигайся маленькими шажками», — говорил мне отец, когда я упирался в какую-либо проблему. Совершая маленькие шажки, они сделали мир прекраснее, чем он был до них. В самом деле, это лучшее, на что способен практически любой из нас".
❤20💔14👍5
И еще оттуда же:
"Вся моя энергия ушла на оттачивание преподавательских навыков. Когда мне было под шестьдесят, у меня появились первые когнитивные нарушения. Я больше не мог так же четко ориентироваться в идеях, порхающих в аудитории. Даже перед занятиями, которые я вел более десяти лет — и для которых мне раньше хватало пяти минут, чтобы заглянуть в свои записи и просмотреть, какие примеры, какие теоремы и какие практические задачи я представлю, — я стал ловить себя на том, что за час до лекции снова и снова просматриваю эти записи, надеясь хоть что-то удержать в голове. Иногда мне это удавалось, иногда — нет. Преподавание — единственное, что я хоть как-то умел делать, и теперь этот навык стал медленно исчезать у меня на глазах. Нейропсихологические тесты и томограмма вскрыли серьезные проблемы. Это была не просто возрастная усталость: я стал истончаться, чтобы однажды окончательно исчезнуть.
<…>
Скорблю ли я об утрате навыков, которые оттачивал десятилетиями? О том, что мне пришлось отказаться от приглашений, которые могли бы дать мне потрясающую возможность поделиться тем, чему я научился, работая с Бенуа Мандельбротом? Да и еще раз да.
В своем романе «Какой бы странной ни была эта погода» Энн Панкейк дает захватывающее описание скорби об утрате той жизни, которая могла сложиться иначе:
Я поняла, что значит оплакивать свою жизнь, которая еще не закончилась, и я поняла, что на свете мало бывает потерь горше этой. Эта скорбь абсолютно выходила за пределы моего воображения. Я до сих пор иногда ощущаю ее сухую шершавую вмятину. Хлесткий удар — и жгучая физическая боль.
Самоподобие моего жизненного выбора — в малых, средних и больших вопросах я всегда выбирал безопасные, удобные для себя решения — породило самоподобие скорби: я сожалею о своем выборе в вопросах малого, среднего и большого масштабов. Пример малой скорби: зачем я выбрал второй цикл лекций по астрономии, а не пошел на генетику? Тут уже можно разглядеть зачатки скорби большего масштаба: ведь тогда я мог бы разрабатывать лекарства от болезней или лечить пациентов. Вместо этого я разрисовывал меловые доски диаграммами и уравнениями, пытаясь по кусочкам объяснить, как природа раскрывается в геометрии. Но тогда я даже не видел — и тем более не осознавал, — какие последствия будет иметь такое масштабирование.
Притупилась ли моя боль благодаря тому, что я сделал шаг назад и посмотрел на себя скорбящего со стороны? Да, немного. Такой взгляд, в общем, несколько облегчил мои страдания по поводу невыбранных дорог. Что бы я ни делал, моя карьера все равно рано или поздно завершилась бы, к тому же есть профессии, расставание с которыми приносит гораздо больше сожаления, нежели расставание с сорокалетней карьерой преподавателя.
Сделаете ли вы в своей жизни лучший выбор, чем я? Я этого не узнаю, но вы — непременно".
"Вся моя энергия ушла на оттачивание преподавательских навыков. Когда мне было под шестьдесят, у меня появились первые когнитивные нарушения. Я больше не мог так же четко ориентироваться в идеях, порхающих в аудитории. Даже перед занятиями, которые я вел более десяти лет — и для которых мне раньше хватало пяти минут, чтобы заглянуть в свои записи и просмотреть, какие примеры, какие теоремы и какие практические задачи я представлю, — я стал ловить себя на том, что за час до лекции снова и снова просматриваю эти записи, надеясь хоть что-то удержать в голове. Иногда мне это удавалось, иногда — нет. Преподавание — единственное, что я хоть как-то умел делать, и теперь этот навык стал медленно исчезать у меня на глазах. Нейропсихологические тесты и томограмма вскрыли серьезные проблемы. Это была не просто возрастная усталость: я стал истончаться, чтобы однажды окончательно исчезнуть.
<…>
Скорблю ли я об утрате навыков, которые оттачивал десятилетиями? О том, что мне пришлось отказаться от приглашений, которые могли бы дать мне потрясающую возможность поделиться тем, чему я научился, работая с Бенуа Мандельбротом? Да и еще раз да.
В своем романе «Какой бы странной ни была эта погода» Энн Панкейк дает захватывающее описание скорби об утрате той жизни, которая могла сложиться иначе:
Я поняла, что значит оплакивать свою жизнь, которая еще не закончилась, и я поняла, что на свете мало бывает потерь горше этой. Эта скорбь абсолютно выходила за пределы моего воображения. Я до сих пор иногда ощущаю ее сухую шершавую вмятину. Хлесткий удар — и жгучая физическая боль.
Самоподобие моего жизненного выбора — в малых, средних и больших вопросах я всегда выбирал безопасные, удобные для себя решения — породило самоподобие скорби: я сожалею о своем выборе в вопросах малого, среднего и большого масштабов. Пример малой скорби: зачем я выбрал второй цикл лекций по астрономии, а не пошел на генетику? Тут уже можно разглядеть зачатки скорби большего масштаба: ведь тогда я мог бы разрабатывать лекарства от болезней или лечить пациентов. Вместо этого я разрисовывал меловые доски диаграммами и уравнениями, пытаясь по кусочкам объяснить, как природа раскрывается в геометрии. Но тогда я даже не видел — и тем более не осознавал, — какие последствия будет иметь такое масштабирование.
Притупилась ли моя боль благодаря тому, что я сделал шаг назад и посмотрел на себя скорбящего со стороны? Да, немного. Такой взгляд, в общем, несколько облегчил мои страдания по поводу невыбранных дорог. Что бы я ни делал, моя карьера все равно рано или поздно завершилась бы, к тому же есть профессии, расставание с которыми приносит гораздо больше сожаления, нежели расставание с сорокалетней карьерой преподавателя.
Сделаете ли вы в своей жизни лучший выбор, чем я? Я этого не узнаю, но вы — непременно".
❤16💔16
Нет никакой Ребекки, есть только я
Прочитал роман «Случай из практики» шотландца Грэма Макрея Барнета. Видит бог, я бы с радостью прочитал его за пару вечеров, но из-за количества текстов, проходящих перед моими глазами каждый день, я уже просто не могу себе позволить такую роскошь. А жаль – это тот случай, когда в роман проваливаешься, и все, что ты хочешь, просто подольше оставаться в его пространстве.
(Ну вы знаете, так бывает с некоторыми сериалами, когда садишься вечером за первую серию, а приходишь в себя утром, лихорадочно ища информацию о дате выходе следующего сезона).
Про книжку пишут, что это роман-матрешка с ненадежным рассказчиком (и даже не с одним), и это чистая правда – Барнет, обласканный разными литературными институциями, мастерски завладевает читательским вниманием и манипулирует им, как хочет. И хотя ты как бы всегда ощущаешь, что играешь в наперстки с профи, вставать из-за стола не хочется – сам процесс обмана слишком обаятелен.
Но выделяет роман не это (мы знаем многих талантливых шулеров), а то, что ценность текста не ограничивается демонстрацией авторского мастерства, за что Барнету больше человеческое спасибо.
Главная героиня – юная англичанка из 1960-х. У нее рано умерла мать, она живет в доме с отцом и нанятой домоправительницей, которая постепенно все больше претендует на роль полноправной супруги. У героини есть сестра – вернее, была, так как в самом начале книги мы узнаем, что Вероника (так ее зовут) совершила самоубийство, спрыгнув с моста. И вот, наша протагонистка однажды читает книгу некоего скандального психотерапевта, Коллинза Бретуэйта, который рассказывает о своих случаях из практики, и в одной из историй она узнает жизнь собственной сестры. В ее голове появляется мысль, что именно Бретуэйт и виноват в смерти Вероники, и хоть сестрицу она любила не слишком сильно, девушка решает вывести его на чистую воду, придя к нему на консультацию. Для этого она придумала себе псевдоним «Ребекка Смитт» и изменила свою биографию.
По этим вводным кажется, что сюжет несколько банален и это такой классический детектив с тем самым ненадежным рассказчиком. Но не стоит заблуждаться. Замечу, что сам образ главной героини напоминает героинь романов Саяки Мураты (особенно сильно - девушку из «Человека-комбини»). Довольно быстро становится ясно, что Ребекке, а вернее ее создательнице, действительно стоило бы обратиться к психологу. Пучок детских травм, неумение «нормально» взаимодействовать с окружающим миром, страхи, переходящие в паранойю. И при всем том – острый и саркастичный ум, а еще склонность к рефлексии. В общем, опасная смесь, которая плохо сочетается с радостью и счастьем, особенно, если добавить к этому раздвоение личности.
В какой-то момент история с расследованием причин смерти сестры (как и само разоблачение предполагаемого виновника трагедии) уходит на второй план, так как на первом оказывается личность Ребекки. Кто возьмет верх над жизнью главной героини – ее скромная и завистливая половина или резкая и уверенная Ребекка? Удастся ли ей «вочеловечиться» (снова привет японке и ее персонажам) или нет? Именно эта тема двойничества (Достоевский в книге тоже упоминается, конечно), соблазнительная идея стать однажды совершенно другим человеком – или стать, наконец, собой? – самая интересная и самая главная в «Случае из практики», а вовсе не игра с автором в наперстки.
Дополнительный объем книге добавляет история того самого скандального психотерапевта Коллинза Бретуэйта. Барнет блестяще его выдумал и вписал в реальный исторический контекст, в историю психотерапии. Скажем так, его сюжетная линия – это почти отдельная новелла, хорошо и очень изящно сделанное мокьюментари.
В общем, завидую тем, кто еще не читал, но собирается прочитать «Случай из практики».
Прочитал роман «Случай из практики» шотландца Грэма Макрея Барнета. Видит бог, я бы с радостью прочитал его за пару вечеров, но из-за количества текстов, проходящих перед моими глазами каждый день, я уже просто не могу себе позволить такую роскошь. А жаль – это тот случай, когда в роман проваливаешься, и все, что ты хочешь, просто подольше оставаться в его пространстве.
(Ну вы знаете, так бывает с некоторыми сериалами, когда садишься вечером за первую серию, а приходишь в себя утром, лихорадочно ища информацию о дате выходе следующего сезона).
Про книжку пишут, что это роман-матрешка с ненадежным рассказчиком (и даже не с одним), и это чистая правда – Барнет, обласканный разными литературными институциями, мастерски завладевает читательским вниманием и манипулирует им, как хочет. И хотя ты как бы всегда ощущаешь, что играешь в наперстки с профи, вставать из-за стола не хочется – сам процесс обмана слишком обаятелен.
Но выделяет роман не это (мы знаем многих талантливых шулеров), а то, что ценность текста не ограничивается демонстрацией авторского мастерства, за что Барнету больше человеческое спасибо.
Главная героиня – юная англичанка из 1960-х. У нее рано умерла мать, она живет в доме с отцом и нанятой домоправительницей, которая постепенно все больше претендует на роль полноправной супруги. У героини есть сестра – вернее, была, так как в самом начале книги мы узнаем, что Вероника (так ее зовут) совершила самоубийство, спрыгнув с моста. И вот, наша протагонистка однажды читает книгу некоего скандального психотерапевта, Коллинза Бретуэйта, который рассказывает о своих случаях из практики, и в одной из историй она узнает жизнь собственной сестры. В ее голове появляется мысль, что именно Бретуэйт и виноват в смерти Вероники, и хоть сестрицу она любила не слишком сильно, девушка решает вывести его на чистую воду, придя к нему на консультацию. Для этого она придумала себе псевдоним «Ребекка Смитт» и изменила свою биографию.
По этим вводным кажется, что сюжет несколько банален и это такой классический детектив с тем самым ненадежным рассказчиком. Но не стоит заблуждаться. Замечу, что сам образ главной героини напоминает героинь романов Саяки Мураты (особенно сильно - девушку из «Человека-комбини»). Довольно быстро становится ясно, что Ребекке, а вернее ее создательнице, действительно стоило бы обратиться к психологу. Пучок детских травм, неумение «нормально» взаимодействовать с окружающим миром, страхи, переходящие в паранойю. И при всем том – острый и саркастичный ум, а еще склонность к рефлексии. В общем, опасная смесь, которая плохо сочетается с радостью и счастьем, особенно, если добавить к этому раздвоение личности.
В какой-то момент история с расследованием причин смерти сестры (как и само разоблачение предполагаемого виновника трагедии) уходит на второй план, так как на первом оказывается личность Ребекки. Кто возьмет верх над жизнью главной героини – ее скромная и завистливая половина или резкая и уверенная Ребекка? Удастся ли ей «вочеловечиться» (снова привет японке и ее персонажам) или нет? Именно эта тема двойничества (Достоевский в книге тоже упоминается, конечно), соблазнительная идея стать однажды совершенно другим человеком – или стать, наконец, собой? – самая интересная и самая главная в «Случае из практики», а вовсе не игра с автором в наперстки.
Дополнительный объем книге добавляет история того самого скандального психотерапевта Коллинза Бретуэйта. Барнет блестяще его выдумал и вписал в реальный исторический контекст, в историю психотерапии. Скажем так, его сюжетная линия – это почти отдельная новелла, хорошо и очень изящно сделанное мокьюментари.
В общем, завидую тем, кто еще не читал, но собирается прочитать «Случай из практики».
❤32👍2
И пара отрывков из романа.
Это – отличная сцена из работы психотерапевта (отправьте своему психологу – я вот своему отправил это описание ха-ха).
В свой первый визит Дороти была скромно одета и представилась в сдержанной, деловитой манере, словно пришла проходить собеседование на работу. Хотя день выдался теплый, на ней был строгий твидовый костюм, в котором она выглядела значительно старше своих лет. Она либо вовсе не пользовалась косметикой, либо пользовалась очень умеренно. Вполне обычная тактика для представителей среднего класса. Им хочется произвести благоприятное впечатление; хочется сразу отмежеваться от пускающих слюни психов, которые, как им представляется, буквально толпятся в кабинете у психотерапевта. Но Дороти пошла еще дальше. Она объявила буквально с порога:
- Так что, доктор Бретуэйт, как мы будем работать?
Эта молодая женщина слишком очевидно стремилась держать все под контролем. Я решил ей подыграть:
- Как вам будет угодно.
Она явно тянула время. Сняла перчатки, аккуратно положила их в сумочку и поставила ее на пол у себя под ногами. Затем завела разговор об организационных моментах: частота посещений, время сеансов и тому подобное. Я дал ей высказаться до конца. Молчание в таких ситуациях - основной инструмент терапевта. Я еще не встречал посетителей, способных противиться искушению заполнить тишину словами. Дороти поправила прическу, разгладила складку на юбке. Все ее движения были тщательно выверены. Она спросила, когда мы начнем.
Я сказал, что мы уже начали. Она было возразила, но сразу же осеклась.
- Да, конечно, - сказала она. - Вы, наверное, изучали мои невербальные сигналы. И, возможно, решили, что я пытаюсь уклониться от самого главного разговора: почему я к вам обратилась.
Я легонько кивнул, как бы подтверждая ее правоту.
- Но вы ждете, что я все-таки разговорюсь и открою вам все свои тайны.
- Вы не обязаны ничего говорить, - сказал я.
- Однако все, что я скажу, может быть использовано против меня. - Она рассмеялась над собственной шуткой.
Работать с интеллектуалами сложно. Им хочется произвести на тебя впечатление своим собственным пониманием проблемы. Они не просто рассказывают о проблеме, но еще и комментируют свой рассказ. «Ну вот, я опять отвлекаю внимание от самого главного, - так они говорят. - Я уверен/уверена, что для вас это весьма показательно». Потому что им хочется доказать, что мы с ними беседуем на равных; что они хорошо представляют, что именно их беспокоит. Но это, конечно же, нонсенс. Если бы они понимали, в чем состоят их проблемы, то не пришли бы ко мне. Они не осознают, что именно их интеллект - их непрестанное стремление объяснить собственное поведение с помощью рациональной аргументации - в подавляющем большинстве случаев и есть корень всех бед.
Это – отличная сцена из работы психотерапевта (отправьте своему психологу – я вот своему отправил это описание ха-ха).
В свой первый визит Дороти была скромно одета и представилась в сдержанной, деловитой манере, словно пришла проходить собеседование на работу. Хотя день выдался теплый, на ней был строгий твидовый костюм, в котором она выглядела значительно старше своих лет. Она либо вовсе не пользовалась косметикой, либо пользовалась очень умеренно. Вполне обычная тактика для представителей среднего класса. Им хочется произвести благоприятное впечатление; хочется сразу отмежеваться от пускающих слюни психов, которые, как им представляется, буквально толпятся в кабинете у психотерапевта. Но Дороти пошла еще дальше. Она объявила буквально с порога:
- Так что, доктор Бретуэйт, как мы будем работать?
Эта молодая женщина слишком очевидно стремилась держать все под контролем. Я решил ей подыграть:
- Как вам будет угодно.
Она явно тянула время. Сняла перчатки, аккуратно положила их в сумочку и поставила ее на пол у себя под ногами. Затем завела разговор об организационных моментах: частота посещений, время сеансов и тому подобное. Я дал ей высказаться до конца. Молчание в таких ситуациях - основной инструмент терапевта. Я еще не встречал посетителей, способных противиться искушению заполнить тишину словами. Дороти поправила прическу, разгладила складку на юбке. Все ее движения были тщательно выверены. Она спросила, когда мы начнем.
Я сказал, что мы уже начали. Она было возразила, но сразу же осеклась.
- Да, конечно, - сказала она. - Вы, наверное, изучали мои невербальные сигналы. И, возможно, решили, что я пытаюсь уклониться от самого главного разговора: почему я к вам обратилась.
Я легонько кивнул, как бы подтверждая ее правоту.
- Но вы ждете, что я все-таки разговорюсь и открою вам все свои тайны.
- Вы не обязаны ничего говорить, - сказал я.
- Однако все, что я скажу, может быть использовано против меня. - Она рассмеялась над собственной шуткой.
Работать с интеллектуалами сложно. Им хочется произвести на тебя впечатление своим собственным пониманием проблемы. Они не просто рассказывают о проблеме, но еще и комментируют свой рассказ. «Ну вот, я опять отвлекаю внимание от самого главного, - так они говорят. - Я уверен/уверена, что для вас это весьма показательно». Потому что им хочется доказать, что мы с ними беседуем на равных; что они хорошо представляют, что именно их беспокоит. Но это, конечно же, нонсенс. Если бы они понимали, в чем состоят их проблемы, то не пришли бы ко мне. Они не осознают, что именно их интеллект - их непрестанное стремление объяснить собственное поведение с помощью рациональной аргументации - в подавляющем большинстве случаев и есть корень всех бед.
❤25👍3💔2
А потом произошло кое-что еще. Однажды вечером за столом я обернулась в ту сторону, где обычно сидела сестра. Я собиралась задать ей вопрос и так и застыла с открытым ртом. Впервые я окончательно осознала, что ее больше нет и не будет. Теперь ее смерть представилась мне в новом свете. В мире образовалась дыра, пустота на том месте, где раньше была Вероника. Исчезла не только физическая оболочка, но и все содержимое ее ума. Вопрос, который я собиралась задать, уже навсегда останется без ответа. Все ее знания, все накопленные воспоминания, все будущие мысли и действия - все ушло безвозвратно. Лишившись ее навсегда, мир как будто уменьшился.
❤27
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вышло интервью Юрия Бутусова, который сейчас ставит спектакль в Вильнюсе, Forbes.
(Формулировка вопроса, конечно, хороша, но уж как есть).
(Формулировка вопроса, конечно, хороша, но уж как есть).
❤9😢4
Тем временем в издательстве «Дом историй» скоро выйдет культовый роман Лоис Дункан «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», который послужил основой для не менее культового слешера 1997 года.
Маша Кривошеина написала для блога совершенно замечательный материал об этой книге – и я очень советую прочитать его, равно как и саму книгу. Р. Л. Стайн, автор знаменитых подростковых серий «Ужастики» и «Улица страха» писал о Дункан:
Она знает, что вы сделали прошлым летом. Она знает, как найти скрытое зло в сердцах своих персонажей, зло, которое она превращает в напряжение, сжимающее горло. Пишет ли кто-то более страшные книги, чем Лоис Дункан? Я так не думаю.
К слову об экранизации – сама Дункан была от нее не в восторге.
Когда увидела экранизацию, я поняла, почему [меня не допускали к работе над ней]. Я купила билет и устроилась в кресле, с нетерпением ожидая увидеть моих персонажей „ожившими“ на большом экране. Я поместила сюжет в Нью-Мексико, поэтому мне показалось странным видеть фоном для начальных титров морской пейзаж. „Может быть, это горное озеро?“ — подумала я. Затем на экране показался безумный рыбак. Он-то откуда взялся? Его не было в моей книге (в другом интервью Дункан признается, что сперва даже решила, будто зашла не в тот кинозал). И что он собирается делать с этим крюком для льда? Вскоре я это поняла. <...> Кровь летела во все стороны от покалеченных шей и отрубленных голов, чего не было в моей книге. Первое, что я сделала, выйдя из кинотеатра, — позвонила моей замужней дочери Керри и попросила ее не разрешать моим внукам смотреть [фильм].
Маша Кривошеина написала для блога совершенно замечательный материал об этой книге – и я очень советую прочитать его, равно как и саму книгу. Р. Л. Стайн, автор знаменитых подростковых серий «Ужастики» и «Улица страха» писал о Дункан:
Она знает, что вы сделали прошлым летом. Она знает, как найти скрытое зло в сердцах своих персонажей, зло, которое она превращает в напряжение, сжимающее горло. Пишет ли кто-то более страшные книги, чем Лоис Дункан? Я так не думаю.
К слову об экранизации – сама Дункан была от нее не в восторге.
Когда увидела экранизацию, я поняла, почему [меня не допускали к работе над ней]. Я купила билет и устроилась в кресле, с нетерпением ожидая увидеть моих персонажей „ожившими“ на большом экране. Я поместила сюжет в Нью-Мексико, поэтому мне показалось странным видеть фоном для начальных титров морской пейзаж. „Может быть, это горное озеро?“ — подумала я. Затем на экране показался безумный рыбак. Он-то откуда взялся? Его не было в моей книге (в другом интервью Дункан признается, что сперва даже решила, будто зашла не в тот кинозал). И что он собирается делать с этим крюком для льда? Вскоре я это поняла. <...> Кровь летела во все стороны от покалеченных шей и отрубленных голов, чего не было в моей книге. Первое, что я сделала, выйдя из кинотеатра, — позвонила моей замужней дочери Керри и попросила ее не разрешать моим внукам смотреть [фильм].
🔥12❤5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Японцы сообщают, что изобрели будку самоубийств из Футурамы капсулу для "стоячего" сна прямо в офисе. Что ж, ценное изобретение, спасибо большое, - как известно, нельзя быть слишком продуктивным, можно лишь недостаточно много работать.
😁22🤯9😢2👍1