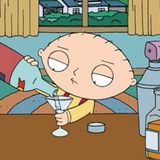Небольшой сборник рассказов «Люди тут у нас» японки Хироми Каваками (Polyandria NoAge, перевод Елены Байбиковой) начинается с рассказа о странной встрече главной героини с младенцем – как и сборник «Опасности курения в постели» аргентинки Марианы Энрикес. Интересно, что в этих текстах есть даже что-то похожее, не считая непосредственно ребенка, хотя истории и совсем разные. У Энрикес героиня, однажды придя домой, вдруг на своей кровати увидела мертвого младенца, который почему-то вполне себе двигался, и потом оказалось, что это умерший ребенок ее прабабки вдруг решил явиться с того света. Она пыталась от него избавиться, но ничего не получалось, и в итоге она плюнула, и просто продолжила жить-поживать, как будто в ее квартире не обитает странное нечто и вообще все в полном порядке.
У Каваками героиня тоже однажды встречает странного младенца – она находит его у себя в саду, чуть ли не в капусте. К счастью, ребенок не был похож на мертвеца, а просто был странным пупсом, который то вдруг говорит с тобой, то нет. Что делает японка с такой находкой? Правильно, берет домой, кормит (а он сжирает буквально все), ну и потом периодически с этим младенцем встречается – чтобы пожаловаться ему на свою жизнь, рассказать о победах и неудачах. Время идет, героиня из девушки становится женщиной, потом старушкой, а младенец не стареет (и тут-то героиня и понимает, что с ним что-то не так!) и со вздохом замечает – ну вот, я умру, а ребеночек так и останется маленьким.
Ну и бог с ним.
Вот в этом «Ну и бог с ним» отношение аргентинки Энрикес и японки Каваками к «потустороннему миру» схоже вплоть до неразличимости, и это любопытно, это совсем не по-европейски – и тем, наверное, так привлекательно для условного западного читателя. Впрочем, об Энрикес я уже рассказывал, поэтому скажу еще пару слов о Каваками.
Сборник можно прочесть за один вечер, но скорее всего делать этого вы не станете, потому что с рассказами Каваками как-то не очень хочется расставаться. Не то чтобы они столь увлекательны сами по себе, однако их странная атмосфера, та легкость, с которой писательница изобретает свою причудливую вселенную, интригует. Ну и помимо всего прочего, Каваками очень легко и ясно пишет (при всей метафоричности текстов) – опытная писательница, она лауреатка множества японских литературных премий, в том числе, премии Акутагавы.
Вот, например, история о двух женщинах-соперницах. С детства они терпеть друг друга не могли, вставляли палки в колеса при любом удобном случае. Потом девушки выросли, одна увела у другой мужа, надеясь, что теперь-то она выиграла странное соревнование! Но не тут-то было – противница вела себя так, будто ничего не случилось. Получается, все зря? Девушка отправилась в храм – она решила проклясть соперницу, чтобы уж наверняка, но все пошло шиворот-навыворот, и проклятие убило ее саму. А выжившая женщина хоть и обрадовалась неожиданной победе, да только вот ей стало скучно без достойного противника, а жить еще предстояло долго, вот такая беда.
Или еще рассказ: однажды старшеклассница после вещего сна подобрала на дороге птицу – не птицу, голубя – не голубя, принесла его домой, стала ухаживать за странным уродцем, а он потом превратился в парня, в мужчину (не то чтобы красавца, но сойдет) ну и так они весело дурачились друг с другом, что однажды он сделал ей предложение, а она от нечего делать согласилась. Жили-поживали молодожены, пока вдруг не стало известно, что на землю надвигается метеорит. Героиня бросилась к мужу, говорит, ну и что вообще делать, умрем мы все, такие дела. А он отвечает – хоть и не хочется мне умирать и бросать тебя,Аленушка, но так уж и быть, я спасу землю. Превратился в гигантского голубя, полетел в небо и столкнулся с метеоритом, защитив таким образом человечество.
Впрочем, пересказывать эти рассказы – только портить: лучше прочитайте один ее короткий текст сами, чтобы понять, ваша история или нет. «Медвежий бог» выходил в «Иностранной литературе» в 2001 году, он очень короткий - о том, как одна девушка сходила на прекрасную прогулку с говорящим медведем, и ни о чем при этом не пожалела.
У Каваками героиня тоже однажды встречает странного младенца – она находит его у себя в саду, чуть ли не в капусте. К счастью, ребенок не был похож на мертвеца, а просто был странным пупсом, который то вдруг говорит с тобой, то нет. Что делает японка с такой находкой? Правильно, берет домой, кормит (а он сжирает буквально все), ну и потом периодически с этим младенцем встречается – чтобы пожаловаться ему на свою жизнь, рассказать о победах и неудачах. Время идет, героиня из девушки становится женщиной, потом старушкой, а младенец не стареет (и тут-то героиня и понимает, что с ним что-то не так!) и со вздохом замечает – ну вот, я умру, а ребеночек так и останется маленьким.
Ну и бог с ним.
Вот в этом «Ну и бог с ним» отношение аргентинки Энрикес и японки Каваками к «потустороннему миру» схоже вплоть до неразличимости, и это любопытно, это совсем не по-европейски – и тем, наверное, так привлекательно для условного западного читателя. Впрочем, об Энрикес я уже рассказывал, поэтому скажу еще пару слов о Каваками.
Сборник можно прочесть за один вечер, но скорее всего делать этого вы не станете, потому что с рассказами Каваками как-то не очень хочется расставаться. Не то чтобы они столь увлекательны сами по себе, однако их странная атмосфера, та легкость, с которой писательница изобретает свою причудливую вселенную, интригует. Ну и помимо всего прочего, Каваками очень легко и ясно пишет (при всей метафоричности текстов) – опытная писательница, она лауреатка множества японских литературных премий, в том числе, премии Акутагавы.
Вот, например, история о двух женщинах-соперницах. С детства они терпеть друг друга не могли, вставляли палки в колеса при любом удобном случае. Потом девушки выросли, одна увела у другой мужа, надеясь, что теперь-то она выиграла странное соревнование! Но не тут-то было – противница вела себя так, будто ничего не случилось. Получается, все зря? Девушка отправилась в храм – она решила проклясть соперницу, чтобы уж наверняка, но все пошло шиворот-навыворот, и проклятие убило ее саму. А выжившая женщина хоть и обрадовалась неожиданной победе, да только вот ей стало скучно без достойного противника, а жить еще предстояло долго, вот такая беда.
Или еще рассказ: однажды старшеклассница после вещего сна подобрала на дороге птицу – не птицу, голубя – не голубя, принесла его домой, стала ухаживать за странным уродцем, а он потом превратился в парня, в мужчину (не то чтобы красавца, но сойдет) ну и так они весело дурачились друг с другом, что однажды он сделал ей предложение, а она от нечего делать согласилась. Жили-поживали молодожены, пока вдруг не стало известно, что на землю надвигается метеорит. Героиня бросилась к мужу, говорит, ну и что вообще делать, умрем мы все, такие дела. А он отвечает – хоть и не хочется мне умирать и бросать тебя,
Впрочем, пересказывать эти рассказы – только портить: лучше прочитайте один ее короткий текст сами, чтобы понять, ваша история или нет. «Медвежий бог» выходил в «Иностранной литературе» в 2001 году, он очень короткий - о том, как одна девушка сходила на прекрасную прогулку с говорящим медведем, и ни о чем при этом не пожалела.
Хотя гражданства Аргентины у меня пока нет, что в свете всего довольно грустно, но по духу я уже почти стал аргентинцем и буду предъявлять это прямо в миграсьонес, пусть сами убедятся.
Вот, например, неделю я занимаюсь поисками медицинской страховки, чтобы она, во-первых, была нормальной по набору услуг, а во-вторых, укладывалась бы в мой скромный бюджет (что довольно сложно). Нырнув в прорубь (говна) отзывов на разные компании, я все же выудил какой-то неплохой вариант, по крайней мере, так кажется на первый и второй взгляд, ну а на деле наверняка все будет иначе (как обычно). Но это будет потом, поэтому и переживать об этом я тоже буду потом.
Так вот, поиск, переписка с агентами и оформление страховки невероятно осложняется тем, что это никакая не переписка, а именно что переговоры – по крайней мере, с их стороны. То есть я получаю голосовые со скоростью света, почти как пощечины, и даже на самые простые вопросы, так что в какой-то момент когда в мой ватс-ап приходило с очередного незнакомого номера очередное голосовое с «ола, буэн диа», у меня начиналась практически истерика и дергался глаз.
Безусловно, меня несколько утешает тот важный факт, что со своим нынешним уровнем испанского я могу эти голосовые понимать, по крайней мере, самое важное в этих сообщениях. И все же. И все же это требует некоего дополнительного усилия, на которое просто нет энергии, потому что не хочу я вообще заниматься страховками, не хочу учить испанский, ничего не хочу, а хочу лежать и смотреть в потолок и просто поменьше страдать (и так чтобы было, на что продукты покупать).
Но неважно. В общем, так или иначе, через боль, отрицания и мозговые спазмы с одной страховой агенткой мы добрались до заключения договора, а происходит оно электронно, через как бы электронную подпись. И вот сегодня я одним глазом читаю новости из России, а другим глазом – а вернее ухом – слежу за своей агенткой Эдит.
Она мне пишет – дорогой Серхио, я подготовила договор! Ура! Сейчас я отправлю его вам на почту. А вы посмотрите и подпишите.
Я говорю – ну конечно, дорогая Эдит, вы такая молодец, спасибо вам большое, низкий поклон.
Она говорит – отправила!
Я говорю – не получил!
Она говорит – отправила еще раз!
Я говорю – еще раз не получил!
Ну и так до упора, до белого шума в голове. Я говорю, ну вы покажите куда вы шлете письмо, я вот отправлял вам свой адрес почты. И отправлял три раза, просто скопируйте. Она говорит, копировать в ее почте нельзя, такая программа, надо ручками вбивать. И отправляет мне скрин экрана со словами: ну вот, один в один же!
А там перепутано две буквы в моей фамилии, которая несложная на любом языке.
Я ей пишу – дорогая Эдит, у вас маленькая ошибочка, представьте себе!
Она пишет – ой ой ой, где же?
Я пишу, а вот здесь, и выделяю ошибку, и следом шлю верный вариант.
Она через несколько минут сообщает, что все поправила и отослала мне письмо заново! А я говорю, что вновь не получил, конечно. Она мне вновь шлет скриншот своей почты и говорит – ой ну я не знаю что еще вообще могу тут сделать! Надо пойти в айти-отдел, пусть помогут!
А там просто перепутаны уже две другие буквы в моей фамилии, буквально следующие.
В общем, так повторялось ТРИ раза.
И знаете что? В итоге, когда мы слава тебе господи разобрались с написанием моей почты, и я получил договор, я ей сказал – дорогая Эдит, спасибо, какая вы замечательная, хорошего вам дня, крепкого здоровья, сегодня все прочитаю и отвечу.
И я, в общем, это сделал даже искренне, в моем мозгу конечно мелькнуло несколько молний ослепительной злости, но быстро исчезли. А вот когда в Сбере у меня как-то перепутали отчество в страховке (вместо Алексеевича я стал Александровичем) я был просто Зевсом, Перуном и всеми другими замечательными богами грома и молний.
Но это почему я был злой? Потому что (велосипеда) аргентинского лета за окном у меня не было.
Вот, например, неделю я занимаюсь поисками медицинской страховки, чтобы она, во-первых, была нормальной по набору услуг, а во-вторых, укладывалась бы в мой скромный бюджет (что довольно сложно). Нырнув в прорубь (говна) отзывов на разные компании, я все же выудил какой-то неплохой вариант, по крайней мере, так кажется на первый и второй взгляд, ну а на деле наверняка все будет иначе (как обычно). Но это будет потом, поэтому и переживать об этом я тоже буду потом.
Так вот, поиск, переписка с агентами и оформление страховки невероятно осложняется тем, что это никакая не переписка, а именно что переговоры – по крайней мере, с их стороны. То есть я получаю голосовые со скоростью света, почти как пощечины, и даже на самые простые вопросы, так что в какой-то момент когда в мой ватс-ап приходило с очередного незнакомого номера очередное голосовое с «ола, буэн диа», у меня начиналась практически истерика и дергался глаз.
Безусловно, меня несколько утешает тот важный факт, что со своим нынешним уровнем испанского я могу эти голосовые понимать, по крайней мере, самое важное в этих сообщениях. И все же. И все же это требует некоего дополнительного усилия, на которое просто нет энергии, потому что не хочу я вообще заниматься страховками, не хочу учить испанский, ничего не хочу, а хочу лежать и смотреть в потолок и просто поменьше страдать (и так чтобы было, на что продукты покупать).
Но неважно. В общем, так или иначе, через боль, отрицания и мозговые спазмы с одной страховой агенткой мы добрались до заключения договора, а происходит оно электронно, через как бы электронную подпись. И вот сегодня я одним глазом читаю новости из России, а другим глазом – а вернее ухом – слежу за своей агенткой Эдит.
Она мне пишет – дорогой Серхио, я подготовила договор! Ура! Сейчас я отправлю его вам на почту. А вы посмотрите и подпишите.
Я говорю – ну конечно, дорогая Эдит, вы такая молодец, спасибо вам большое, низкий поклон.
Она говорит – отправила!
Я говорю – не получил!
Она говорит – отправила еще раз!
Я говорю – еще раз не получил!
Ну и так до упора, до белого шума в голове. Я говорю, ну вы покажите куда вы шлете письмо, я вот отправлял вам свой адрес почты. И отправлял три раза, просто скопируйте. Она говорит, копировать в ее почте нельзя, такая программа, надо ручками вбивать. И отправляет мне скрин экрана со словами: ну вот, один в один же!
А там перепутано две буквы в моей фамилии, которая несложная на любом языке.
Я ей пишу – дорогая Эдит, у вас маленькая ошибочка, представьте себе!
Она пишет – ой ой ой, где же?
Я пишу, а вот здесь, и выделяю ошибку, и следом шлю верный вариант.
Она через несколько минут сообщает, что все поправила и отослала мне письмо заново! А я говорю, что вновь не получил, конечно. Она мне вновь шлет скриншот своей почты и говорит – ой ну я не знаю что еще вообще могу тут сделать! Надо пойти в айти-отдел, пусть помогут!
А там просто перепутаны уже две другие буквы в моей фамилии, буквально следующие.
В общем, так повторялось ТРИ раза.
И знаете что? В итоге, когда мы слава тебе господи разобрались с написанием моей почты, и я получил договор, я ей сказал – дорогая Эдит, спасибо, какая вы замечательная, хорошего вам дня, крепкого здоровья, сегодня все прочитаю и отвечу.
И я, в общем, это сделал даже искренне, в моем мозгу конечно мелькнуло несколько молний ослепительной злости, но быстро исчезли. А вот когда в Сбере у меня как-то перепутали отчество в страховке (вместо Алексеевича я стал Александровичем) я был просто Зевсом, Перуном и всеми другими замечательными богами грома и молний.
Но это почему я был злой? Потому что (велосипеда) аргентинского лета за окном у меня не было.
Когда скучно моим друзьям, они ходят в разные дейтинговые приложения, когда скучно мне, я хожу на хедхантер, потому что это примерно одно и то же, редкая (по качеству выборки) презентация глупости и хвастовства одновременно.
Вот, например, сегодня увидел компанию, которая зовет работать «в ХРАМ интернет-маркетинга» (стесняюсь спросить, какие жертвы приносятся тамошним богам, печень пиарщика, сердце копирайтера?). Или вот один застройщик вопрошает у соискателя: «понимаете ли Вы ЗА инфостиль?» (потревоженный дух Ильяхова заходит в чат, бессмысленно озираясь вокруг).
Еще видел очень смешную компанию с названием «Интеграаал» - именно так, с тройным «а». Ничего не имею против, но все равно забавно, тебя вот спросят, ты где работаешь? А ты ответишь: в интеграааале.
Очень хорошо.
Но мой любимый (он же вечный) повод для восхищенного удивления – это горделивые примечания:
- Мы соблюдаем ТК РФ (а ведь могли бы соблюдать ТК Зимбабве или Российской империи, честное слово, и тогда пороли бы вас на конюшне, ну хотя бы для профилактики);
- Платим зарплату (надеюсь, деньгами, а не краплеными картами?).
(Тут всегда хочется сказать, что я в таком случае обещаюсь садиться за компьютер и как минимум дважды в день включать монитор, а в хорошие дни еще и даже что-то там печатать на своей клавиатуре).
Закончу цитатой из описания одной вакансии: «Нам не подойдет начинающий редактор, нам нужны очумелые ручки (щас умру). Присылайте свой кейсы и портфолио».
В общем, бежим, волосы назад.
Вот, например, сегодня увидел компанию, которая зовет работать «в ХРАМ интернет-маркетинга» (стесняюсь спросить, какие жертвы приносятся тамошним богам, печень пиарщика, сердце копирайтера?). Или вот один застройщик вопрошает у соискателя: «понимаете ли Вы ЗА инфостиль?» (потревоженный дух Ильяхова заходит в чат, бессмысленно озираясь вокруг).
Еще видел очень смешную компанию с названием «Интеграаал» - именно так, с тройным «а». Ничего не имею против, но все равно забавно, тебя вот спросят, ты где работаешь? А ты ответишь: в интеграааале.
Очень хорошо.
Но мой любимый (он же вечный) повод для восхищенного удивления – это горделивые примечания:
- Мы соблюдаем ТК РФ (а ведь могли бы соблюдать ТК Зимбабве или Российской империи, честное слово, и тогда пороли бы вас на конюшне, ну хотя бы для профилактики);
- Платим зарплату (надеюсь, деньгами, а не краплеными картами?).
(Тут всегда хочется сказать, что я в таком случае обещаюсь садиться за компьютер и как минимум дважды в день включать монитор, а в хорошие дни еще и даже что-то там печатать на своей клавиатуре).
Закончу цитатой из описания одной вакансии: «Нам не подойдет начинающий редактор, нам нужны очумелые ручки (щас умру). Присылайте свой кейсы и портфолио».
В общем, бежим, волосы назад.
Приложение "старый добрый bordel" ищет копирайтера - если кому надо, пишите, пришлю ссылочку на вакансию)
Обещают дать шанс поработать над "уникальным продуктом на рынке", что, безусловно, очень заманчиво.
Идеальный кандидат на вакансию, кстати, жил в моем районе Москвы, где у меня рядом с домом работал магазин с неподражаемой вывеской: kiska - белье на грани riska. Кто там рисковал, я так до конца и не понял, но, думаю, что-то подобное нужно и здесь. Хотя как найти автора шедевра (и помочь ребятам закрыть позицию) - ума не приложу.
Обещают дать шанс поработать над "уникальным продуктом на рынке", что, безусловно, очень заманчиво.
Идеальный кандидат на вакансию, кстати, жил в моем районе Москвы, где у меня рядом с домом работал магазин с неподражаемой вывеской: kiska - белье на грани riska. Кто там рисковал, я так до конца и не понял, но, думаю, что-то подобное нужно и здесь. Хотя как найти автора шедевра (и помочь ребятам закрыть позицию) - ума не приложу.
Какой увлекательный материал.
https://knife.media/netherlands-resistance/
Арондеус, Белинфанте и их товарищи собирали деньги для евреев, потерявших работу, и искали им укрытия. Фрида отвечала за бывших музыкантов и продала свою виолончель, чтобы помочь им. Но главной задачей Совета была подделка документов. Арондеус воспользовался своим талантом и подделал сотни удостоверений личности для евреев. Белинфанте тоже вернулась к знакомому занятию, и к ним присоединились другие художники, музыканты, писатели…
Всего активистам удалось сделать 80 000 карточек, сменив еврейские имена на голландские и убрав пометку «J».
Позже эта же группа активистов устроила поджог в немецком архиве в Амстердаме. Из пяти миллионов досье, копий паспортов и удостоверений сгорели или пострадали в воде 800 000: возможно, лишь малая доля всего архива, но это означало, что диверсанты спасли сотни тысяч человек.
Впрочем, после войны имена всех этих смелых людей были на долгие десятилетия вычеркнуты из истории сопротивления нацизму.
https://knife.media/netherlands-resistance/
Арондеус, Белинфанте и их товарищи собирали деньги для евреев, потерявших работу, и искали им укрытия. Фрида отвечала за бывших музыкантов и продала свою виолончель, чтобы помочь им. Но главной задачей Совета была подделка документов. Арондеус воспользовался своим талантом и подделал сотни удостоверений личности для евреев. Белинфанте тоже вернулась к знакомому занятию, и к ним присоединились другие художники, музыканты, писатели…
Всего активистам удалось сделать 80 000 карточек, сменив еврейские имена на голландские и убрав пометку «J».
Позже эта же группа активистов устроила поджог в немецком архиве в Амстердаме. Из пяти миллионов досье, копий паспортов и удостоверений сгорели или пострадали в воде 800 000: возможно, лишь малая доля всего архива, но это означало, что диверсанты спасли сотни тысяч человек.
Впрочем, после войны имена всех этих смелых людей были на долгие десятилетия вычеркнуты из истории сопротивления нацизму.
Ну что ж, Хавьер Милей официально стал президентом Аргентины, а я посмотрел всю церемонию инаугурацию.
По протоколу, вступление президента в должность происходит в Конгрессе, куда Милей, в отличие от предшественников, приехал на своем личном автомобиле. Также, в отличие от предшественников, он не стал выступать перед депутатами, как положено, и вместо этого выступил перед избирателями на площади – а их собралось больше, чем когда-либо за последние 20 лет. Кристина Киршнер, главная женщина аргентинской политики и уходящая вице-президентка, которой страна обязана многими хорошими и многими плохими вещами, была одета в красное и была явно недовольна – перед входом в Конгресс она показала фак раздраженным сторонникам Милея, потому что, ну, может себе это позволить.
На сцене, где выступал избранный президент, были также иностранные лидеры, в том числе, Владимир Зеленский, прилетевший в Буэнос-Айрес ночью. На площади вместе с аргентинским флагом люди размахивали флагами Израиля и Украины – и это, конечно, свидетельство внешнеполитического вектора, выбранного Милеем. В промежутке между победой на выборах и инаугурацией он успел съездить в США, где, по-видимому, заручился поддержкой Белого дома в переговорах с МВФ и проведении тотальных экономических реформ. Все это делает президента Аргентины белой вороной Южной Америки, где, кажется, ни одна страна не выступила напрямую ни в поддержку Израиля, ни в поддержку Украины, в лучшем случае выбрав нейтралитет в обоих конфликтах. Кстати, первый официальный визит в качестве президента Милей также планирует совершить в США, второй – в Израиль. Вещь удивительная для Латинской Америки, повторюсь.
Вообще, за последние недели Милей успел удивить страну множество раз. Главным, пожалуй, стало то, что большинство его ближайших сторонников не получили ни одного весомого министерского портфеля в будущем правительстве. И министерство внутренних дел, и министерство экономики он отдал умеренным оппозиционерам-либералам, чем несказанно обрадовал «среднего» избирателя, и чем разозлил своих однопартийцев.
К моей личной большой радости пока без какой-либо серьезной должности остается Каролина Пипаро, совершенно безумная депутатка, которая выступает за право мужчины официально отказаться от новорожденного ребенка, в случае, если он того захочет и если женщина в некий оговоренный срок не сообщила партнеру, что беременна. Отличный план, что сказать – лишить женщину права на аборт, а затем разрешить мужчинам самоустраняться из жизни ребенка. Замечу в скобках, что у Милея талант окружать себя очень странными дамами, не знаю даже, это баг или фича – возможно, он просто хочет выглядеть на их фоне более адекватным человеком.
После выступления у Конгресса Милей вместе со своей сестрой отправился в президентский дворец Casa Rosada, по пути также несколько раз нарушив протокол – он выходил из машины, чтобы поприветствовать людей (и погладить большую рыжую собаку на дороге).
По протоколу, вступление президента в должность происходит в Конгрессе, куда Милей, в отличие от предшественников, приехал на своем личном автомобиле. Также, в отличие от предшественников, он не стал выступать перед депутатами, как положено, и вместо этого выступил перед избирателями на площади – а их собралось больше, чем когда-либо за последние 20 лет. Кристина Киршнер, главная женщина аргентинской политики и уходящая вице-президентка, которой страна обязана многими хорошими и многими плохими вещами, была одета в красное и была явно недовольна – перед входом в Конгресс она показала фак раздраженным сторонникам Милея, потому что, ну, может себе это позволить.
На сцене, где выступал избранный президент, были также иностранные лидеры, в том числе, Владимир Зеленский, прилетевший в Буэнос-Айрес ночью. На площади вместе с аргентинским флагом люди размахивали флагами Израиля и Украины – и это, конечно, свидетельство внешнеполитического вектора, выбранного Милеем. В промежутке между победой на выборах и инаугурацией он успел съездить в США, где, по-видимому, заручился поддержкой Белого дома в переговорах с МВФ и проведении тотальных экономических реформ. Все это делает президента Аргентины белой вороной Южной Америки, где, кажется, ни одна страна не выступила напрямую ни в поддержку Израиля, ни в поддержку Украины, в лучшем случае выбрав нейтралитет в обоих конфликтах. Кстати, первый официальный визит в качестве президента Милей также планирует совершить в США, второй – в Израиль. Вещь удивительная для Латинской Америки, повторюсь.
Вообще, за последние недели Милей успел удивить страну множество раз. Главным, пожалуй, стало то, что большинство его ближайших сторонников не получили ни одного весомого министерского портфеля в будущем правительстве. И министерство внутренних дел, и министерство экономики он отдал умеренным оппозиционерам-либералам, чем несказанно обрадовал «среднего» избирателя, и чем разозлил своих однопартийцев.
К моей личной большой радости пока без какой-либо серьезной должности остается Каролина Пипаро, совершенно безумная депутатка, которая выступает за право мужчины официально отказаться от новорожденного ребенка, в случае, если он того захочет и если женщина в некий оговоренный срок не сообщила партнеру, что беременна. Отличный план, что сказать – лишить женщину права на аборт, а затем разрешить мужчинам самоустраняться из жизни ребенка. Замечу в скобках, что у Милея талант окружать себя очень странными дамами, не знаю даже, это баг или фича – возможно, он просто хочет выглядеть на их фоне более адекватным человеком.
После выступления у Конгресса Милей вместе со своей сестрой отправился в президентский дворец Casa Rosada, по пути также несколько раз нарушив протокол – он выходил из машины, чтобы поприветствовать людей (и погладить большую рыжую собаку на дороге).
Главный месседж его инаугурационной речи – конец затянувшейся ночи популизма. И это, пожалуй, то, что меня впечатлило сильнее всего. Удивительно, но на протяжении всей избирательной кампании Милей был довольно честен и прямолинеен в целях своей экономической программы, а она у него радикальна и недавно получила название «шокового» плана реформ. Не правда ли, напоминает «шоковую терапию»? Ну, в общем, это она и есть. Забавно, что мои родители жили в отечественных 90-х, а я увижу аргентинские 90-е.
Что меня удивило – и что отличает Аргентину от России начала 90-х – что люди, зная об этом плане реформ, проголосовали за него. В России, по моему мнению, было не так – большинство избирателей не знало, да и не могло знать, чем обернется демократическое правительство. А знало бы, вряд ли бы проголосовало за Ельцина. Здесь мне хочется пояснить, что, на мой взгляд, реформы 90-х, как показывает история, во многом достигли целей, экономика России перестала быть плановой и, при всех оговорках, стала рыночной (и остается таковой до сих пор). Однако, с другой стороны, эти реформы и все, что за ними последовало, создали чудовищно несправедливое общество, создали систему ценностей «без ценностей», и то, к чему все это привело, мы хорошо видим. Отсутствие человека, как важнейшей (ключевой) составляющей в уравнении экономических реформ, стоит дорого, во всех смыслах.
Поэтому главный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня в Аргентине, это удастся ли Милею провести реформы, не уничтожив по пути гуманистические достижения общества, не сломав всю выстроенную этическую систему координат. Потому что обещанного экономического благополучия достичь трудно – а вот лишить людей прав и достоинства, на самом деле, очень легко.
Что меня удивило – и что отличает Аргентину от России начала 90-х – что люди, зная об этом плане реформ, проголосовали за него. В России, по моему мнению, было не так – большинство избирателей не знало, да и не могло знать, чем обернется демократическое правительство. А знало бы, вряд ли бы проголосовало за Ельцина. Здесь мне хочется пояснить, что, на мой взгляд, реформы 90-х, как показывает история, во многом достигли целей, экономика России перестала быть плановой и, при всех оговорках, стала рыночной (и остается таковой до сих пор). Однако, с другой стороны, эти реформы и все, что за ними последовало, создали чудовищно несправедливое общество, создали систему ценностей «без ценностей», и то, к чему все это привело, мы хорошо видим. Отсутствие человека, как важнейшей (ключевой) составляющей в уравнении экономических реформ, стоит дорого, во всех смыслах.
Поэтому главный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня в Аргентине, это удастся ли Милею провести реформы, не уничтожив по пути гуманистические достижения общества, не сломав всю выстроенную этическую систему координат. Потому что обещанного экономического благополучия достичь трудно – а вот лишить людей прав и достоинства, на самом деле, очень легко.
Кажется, эта новинка нужна всем, кто работает с книгами)
"Торговцы культурой. Книгоиздательский бизнес в XXI веке", Джон Б. Томпсон
Существующая уже пять столетий книжная индустрия столкнулась в XXI веке с самыми крупными в своей истории вызовами. С наступлением цифрового века ей неизменно пророчат скорую смерть. Однако насколько такие прогнозы справедливы и как сегодня устроен книжный бизнес? Книга Джона Томпсона рассказывает о том, какие перемены издательское дело пережило за последние 40–50 лет и как переосмысливались в нем роли главных акторов — издателей, агентов и продавцов. В поисках ответов Томпсон опирается на большой корпус интервью, взятых у различных сотрудников издательств, хедхантеров, авторов и книготорговцев, включая ключевых закупщиков из крупных розничных сетей. Исследуя с позиции антрополога структуру издательского мира, автор пытается понять: почему и как, несмотря на глобальную трансформацию медийного поля, книгоизданию удается оставаться центральной сферой человеческой культуры?
"Торговцы культурой. Книгоиздательский бизнес в XXI веке", Джон Б. Томпсон
Существующая уже пять столетий книжная индустрия столкнулась в XXI веке с самыми крупными в своей истории вызовами. С наступлением цифрового века ей неизменно пророчат скорую смерть. Однако насколько такие прогнозы справедливы и как сегодня устроен книжный бизнес? Книга Джона Томпсона рассказывает о том, какие перемены издательское дело пережило за последние 40–50 лет и как переосмысливались в нем роли главных акторов — издателей, агентов и продавцов. В поисках ответов Томпсон опирается на большой корпус интервью, взятых у различных сотрудников издательств, хедхантеров, авторов и книготорговцев, включая ключевых закупщиков из крупных розничных сетей. Исследуя с позиции антрополога структуру издательского мира, автор пытается понять: почему и как, несмотря на глобальную трансформацию медийного поля, книгоизданию удается оставаться центральной сферой человеческой культуры?
Любителям латиноамериканской литературы посвящается - в 2024 году Polyandria NoAge (@polyandria) выпустит совсем свежий роман «Симпатия» современного венесуэльского писателя Родриго Бланко Кальдерона об эпохе чавизма.
Родриго Бланко Кальдерон зарекомендовал себя как один из величайших голосов латиноамериканской литературы благодаря своему дебютному роману «Ночь» и сборнику рассказов «Жертвоприношения».
«Симпатия» — это напряженный роман с неожиданными поворотами событий, рассказывающий о кризисе в Венесуэле и крахе чавизма.
Действие происходит в период президентства Николаса Мадуро на фоне массового оттока представителей интеллектуального класса. Главный герой Улисес Кан, любитель кино, получает известие от своей жены Полины, в котором та сообщает, что бросает его и уезжает из страны.
Два последующих события еще больше осложняют жизнь Кана: возвращение Надин, безответной любви из прошлого, и смерть тестя, генерала Мартина Айалы. Из завещания Айалы Улисес узнает, что ему поручена миссия — превратить Лос-Аргонаутас, большой фамильный особняк, в приют для брошенных собак. Если ему удастся сделать это в срок, он унаследует роскошную квартиру, которую некогда делил с Полиной.
Книга о семье и сиротстве, борьбе со злоупотреблением властью и политических процессах в Венесуэле. Название произведения (которое можно одновременно перевести и как «сочувствие», и как «расположение к кому-либо») отсылает читателя к эмоциям, которые вызывают те или иные персонажи.
В обществе, где все человеческие связи, кажется, окончательно оборвались, Улисес, подобно бездомной собаке, мечтает о толике внимания. Можете ли вы знать наверняка, кого любите? Что такое, по сути, семья? Являются ли брошенные собаки доказательством существования или несуществования Бога? Улисес неосознанно ищет ответы на эти вопросы, как пилигрим в эпоху пост-любви.
Родриго Бланко Кальдерон зарекомендовал себя как один из величайших голосов латиноамериканской литературы благодаря своему дебютному роману «Ночь» и сборнику рассказов «Жертвоприношения».
«Симпатия» — это напряженный роман с неожиданными поворотами событий, рассказывающий о кризисе в Венесуэле и крахе чавизма.
Действие происходит в период президентства Николаса Мадуро на фоне массового оттока представителей интеллектуального класса. Главный герой Улисес Кан, любитель кино, получает известие от своей жены Полины, в котором та сообщает, что бросает его и уезжает из страны.
Два последующих события еще больше осложняют жизнь Кана: возвращение Надин, безответной любви из прошлого, и смерть тестя, генерала Мартина Айалы. Из завещания Айалы Улисес узнает, что ему поручена миссия — превратить Лос-Аргонаутас, большой фамильный особняк, в приют для брошенных собак. Если ему удастся сделать это в срок, он унаследует роскошную квартиру, которую некогда делил с Полиной.
Книга о семье и сиротстве, борьбе со злоупотреблением властью и политических процессах в Венесуэле. Название произведения (которое можно одновременно перевести и как «сочувствие», и как «расположение к кому-либо») отсылает читателя к эмоциям, которые вызывают те или иные персонажи.
В обществе, где все человеческие связи, кажется, окончательно оборвались, Улисес, подобно бездомной собаке, мечтает о толике внимания. Можете ли вы знать наверняка, кого любите? Что такое, по сути, семья? Являются ли брошенные собаки доказательством существования или несуществования Бога? Улисес неосознанно ищет ответы на эти вопросы, как пилигрим в эпоху пост-любви.
Пока искал информацию об одной книжке, наткнулся на совершенно удивительную историю реального человека, Энрикеты Фавес.
Она родилась в буржуазной семье в Лозанне в 1791 году. В 15 лет вышла замуж за французского солдата и родила от него ребенка. Впрочем, ребенок умер совсем маленьким, а муж погиб в бою. Тогда Энрика взяла одежду мужа и, судя по всему, его документы, и отправилась в Сорбонну изучать медицину под видом симпатичного молодого человека. После учебы уже в качестве настоящего хирурга она сопровождала в походах наполеоновскую армию – в том числе, говорят, в походе на Москву.
После поражения Бонапарта Энрике отправилась на Кубу, став в 1819 году первой женщиной-врачом во всей Латинской Америке. Справедливости ради стоит сказать, что о настоящем поле Энрике тогда никто не знал, так как она продолжала носить мужской костюм. Более того, в 1823-м она даже сочеталась браком – то есть прямо в церкви – с некой Хуаной де Леон, очень бедной девушкой.
Не до конца понятно, что это был за союз, однако счастье (если оно было) длилось недолго: к сожалению, Энрике любила как следует выпить, и однажды в бессознательном состоянии ее обнаружила служанка, угадавшая за растрепанной мужской одеждой – женщину. Предполагается, что Хуана де Леон, испугавшись последствий раскрывшейся тайны, сама сдала Энрике. Она пошла в суд, сказала, что ее насилием и деньгами склоняли ко всяким нехорошим вещам и самым наглым образом опорочили ее святую простоту.
Брак был расторгнут, Энрике заключили в тюрьму на короткое время, а после освобождения она была вынуждена покинуть земли испанской короны. Она отправилась в Новый Орлеан, где вступила в монашеский орден, и уже в качестве сестры Магдалены продолжила свое врачебное дело. Однажды она даже написала письмо Хуане де Леон, но к тому времени бывшая супруга уже умерла.
В Новом Орлеане Энрике прожила до самой смерти в 1856 году.
Она родилась в буржуазной семье в Лозанне в 1791 году. В 15 лет вышла замуж за французского солдата и родила от него ребенка. Впрочем, ребенок умер совсем маленьким, а муж погиб в бою. Тогда Энрика взяла одежду мужа и, судя по всему, его документы, и отправилась в Сорбонну изучать медицину под видом симпатичного молодого человека. После учебы уже в качестве настоящего хирурга она сопровождала в походах наполеоновскую армию – в том числе, говорят, в походе на Москву.
После поражения Бонапарта Энрике отправилась на Кубу, став в 1819 году первой женщиной-врачом во всей Латинской Америке. Справедливости ради стоит сказать, что о настоящем поле Энрике тогда никто не знал, так как она продолжала носить мужской костюм. Более того, в 1823-м она даже сочеталась браком – то есть прямо в церкви – с некой Хуаной де Леон, очень бедной девушкой.
Не до конца понятно, что это был за союз, однако счастье (если оно было) длилось недолго: к сожалению, Энрике любила как следует выпить, и однажды в бессознательном состоянии ее обнаружила служанка, угадавшая за растрепанной мужской одеждой – женщину. Предполагается, что Хуана де Леон, испугавшись последствий раскрывшейся тайны, сама сдала Энрике. Она пошла в суд, сказала, что ее насилием и деньгами склоняли ко всяким нехорошим вещам и самым наглым образом опорочили ее святую простоту.
Брак был расторгнут, Энрике заключили в тюрьму на короткое время, а после освобождения она была вынуждена покинуть земли испанской короны. Она отправилась в Новый Орлеан, где вступила в монашеский орден, и уже в качестве сестры Магдалены продолжила свое врачебное дело. Однажды она даже написала письмо Хуане де Леон, но к тому времени бывшая супруга уже умерла.
В Новом Орлеане Энрике прожила до самой смерти в 1856 году.
Прочитал внезапно обнаруженную старую книжку «Там, за рекою, Аргентина» Иржи Ганзелка и Мирослава Зикмунда. Звучит невероятно, но это путевые заметки двух чехословацких путешественников, которые в конце 1940-х отправились на корабле из Африки в Южную Америку, и там на машине проехали по Аргентине, Парагваю, Бразилии и Уругваю. Сегодня такой дневниковый жанр подзабыт по понятным причинам – все же поездка примерно в любой уголок мира не столь невероятна, как 70 лет назад – но в нем есть свое обаяние.
Авторы подробно описывают не только то, что видят за окном, но и историю городов, где останавливаются, дают культурологические справки, делятся биографиями встреченных людей. Все это, конечно, не обходится без идеологической критики – описывая заводы Аргентины, путешественники не забудут упомянуть кровавый оскал капитализма, а посещая лепрозорий, скажут, что цена одного танка, купленного аргентинским правительством, равняется цене десяти спасенных от болезни человеческих жизней. Все это, понятное дело, довольно комично звучит на фоне происходящего в странах будущего Восточного блока, не говоря уж о самом СССР: кого бы там волновало, сколько человеческих жизней можно спасти, отказавшись от пары новеньких ракет? У меня, как у российского читателя, постоянно зудел в голове этот (и другие) вопросы, когда авторы описывали ту или иную несправедливость в Южной Америке. Особенно трогательно было недовольство путешественников запретами митингов в Рио-де-Жанейро. Ну да, ну да…
Вместе с тем, даже в этой социальной критике – наивной – много хорошего: люди, вообще-то, заслуживают пенсию, выходных, нормированного рабочего дня, отпуска, достойных условий труда. Некоторые элементы этих социальных благ, кстати, и правда были в социалистических странах и отсутствовали в капиталистических – что, конечно, не отменяет всех прочих недостатков.
Так или иначе, авторы не сосредоточены исключительно на критике. В основном, они с восторгом описывают Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, природу, те же заводы-пароходы. Полагаю, именно поэтому в СССР книжка была опубликована лишь в 1959-м – наверное, до оттепели советским гражданам не полагалось знать, что в далеких некоммунистических странах обитают не только люди с песьими головами, и что там тоже возможна нормальная жизнь.
Читая книгу, было интересно сравнивать аргентинскую реальность 1940-х, когда путешественники по радио слушали выступление Эвиты Перон, и нынешнюю, в которой та же Эва стала богиней, абсолютной легендой, местной королевой сердец. Пожалуй, главный вопрос, всплывающий на этом фоне в голове – может ли вообще страна из условного лагеря средних держав, вырваться вперед и наладить свою жизнь, то есть догнать Европу? Раньше я думал, что ответ скорее положительный, сегодня же думаю, что ответ скорее отрицательный. Прецеденты экономических рывков, конечно, есть, но это исключение из правил, а не правило: должно совпасть так много факторов, что шансы на успех примерно такие же, как выиграть миллион в лотерею. Шанс есть, но исчезающе крохотный – и велика вероятность, что ты проиграешь даже то, что имеешь.
В случае с Аргентиной и Бразилией меня отдельно умилило, что чехословацкие путешественники описывают местные нравы как очень, очень строгие по сравнению с их родной Европой. Мол, шорты не наденешь, рукава в публичном месте не закатаешь – коситься будут, а то еще и полицейский подойдет! Удивительно, как сильно поменялись нравы – сегодня в Буэнос-Айресе можно удивить кого-то, разве выйдя на улицу голым. Хотя, не уверен, может и это никого не удивит.
В общем, если вы в поисках чтения, которое отвлечет от текущих новостей, и перенесет в мир, где добро и зло еще имели четкие границы, а за окном всегда примерно +20 (путешественникам повезло!), то эта книжка для вас. Единственное, пожалуй, от чего меня укачивало, это от знакомых по советским книжкам метафор и оборотов вроде «стакатто деревьев», «стальные муравьи» (применительно к машинам на дороге!), город «ощетинившийся трубами» и так далее. Нет, простите, давайте уж лучше без этого.
Авторы подробно описывают не только то, что видят за окном, но и историю городов, где останавливаются, дают культурологические справки, делятся биографиями встреченных людей. Все это, конечно, не обходится без идеологической критики – описывая заводы Аргентины, путешественники не забудут упомянуть кровавый оскал капитализма, а посещая лепрозорий, скажут, что цена одного танка, купленного аргентинским правительством, равняется цене десяти спасенных от болезни человеческих жизней. Все это, понятное дело, довольно комично звучит на фоне происходящего в странах будущего Восточного блока, не говоря уж о самом СССР: кого бы там волновало, сколько человеческих жизней можно спасти, отказавшись от пары новеньких ракет? У меня, как у российского читателя, постоянно зудел в голове этот (и другие) вопросы, когда авторы описывали ту или иную несправедливость в Южной Америке. Особенно трогательно было недовольство путешественников запретами митингов в Рио-де-Жанейро. Ну да, ну да…
Вместе с тем, даже в этой социальной критике – наивной – много хорошего: люди, вообще-то, заслуживают пенсию, выходных, нормированного рабочего дня, отпуска, достойных условий труда. Некоторые элементы этих социальных благ, кстати, и правда были в социалистических странах и отсутствовали в капиталистических – что, конечно, не отменяет всех прочих недостатков.
Так или иначе, авторы не сосредоточены исключительно на критике. В основном, они с восторгом описывают Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, природу, те же заводы-пароходы. Полагаю, именно поэтому в СССР книжка была опубликована лишь в 1959-м – наверное, до оттепели советским гражданам не полагалось знать, что в далеких некоммунистических странах обитают не только люди с песьими головами, и что там тоже возможна нормальная жизнь.
Читая книгу, было интересно сравнивать аргентинскую реальность 1940-х, когда путешественники по радио слушали выступление Эвиты Перон, и нынешнюю, в которой та же Эва стала богиней, абсолютной легендой, местной королевой сердец. Пожалуй, главный вопрос, всплывающий на этом фоне в голове – может ли вообще страна из условного лагеря средних держав, вырваться вперед и наладить свою жизнь, то есть догнать Европу? Раньше я думал, что ответ скорее положительный, сегодня же думаю, что ответ скорее отрицательный. Прецеденты экономических рывков, конечно, есть, но это исключение из правил, а не правило: должно совпасть так много факторов, что шансы на успех примерно такие же, как выиграть миллион в лотерею. Шанс есть, но исчезающе крохотный – и велика вероятность, что ты проиграешь даже то, что имеешь.
В случае с Аргентиной и Бразилией меня отдельно умилило, что чехословацкие путешественники описывают местные нравы как очень, очень строгие по сравнению с их родной Европой. Мол, шорты не наденешь, рукава в публичном месте не закатаешь – коситься будут, а то еще и полицейский подойдет! Удивительно, как сильно поменялись нравы – сегодня в Буэнос-Айресе можно удивить кого-то, разве выйдя на улицу голым. Хотя, не уверен, может и это никого не удивит.
В общем, если вы в поисках чтения, которое отвлечет от текущих новостей, и перенесет в мир, где добро и зло еще имели четкие границы, а за окном всегда примерно +20 (путешественникам повезло!), то эта книжка для вас. Единственное, пожалуй, от чего меня укачивало, это от знакомых по советским книжкам метафор и оборотов вроде «стакатто деревьев», «стальные муравьи» (применительно к машинам на дороге!), город «ощетинившийся трубами» и так далее. Нет, простите, давайте уж лучше без этого.
Закончил читать переписку Вирджинии Вулф и Виктории Окампо (на испанском, господи прости). Книжка небольшая, но с поправкой на язык чтение растянулось во времени.
Вулф, конечно, в этих отношениях была звездой, а Окампо восхищалась ей. Она постоянно искала возможности с ней встретиться, когда приезжала в Европу из Аргентины, половина переписки – это попытки договориться, в каком городе они увидятся. Мадрид, Париж, Лондон? Окампо через океан отправляла Вирджинии саженцы южноамериканских цветов, а та сажала их у себя в саду. А еще Окампо отправляла ей бабочек (не очень понимаю, как она это технически делала, но уж как-то делала). Вулф, в свою очередь, всегда подбадривала вечно сомневающуюся подругу, и верила в ее талант. А еще постоянно спрашивала, не нашла ли Виктория кого-то подходящего в Аргентине для издания своих романов на испанском.
Еще любопытная деталь – Вирджиния пишет Окампо всегда в спешке, у нее хозяйство, заботы, быт. Окампо происходила из влиятельной и богатой семьи (какой у нее роскошный особняк в пригороде Буэнос-Айреса!), и ей, в принципе, можно было заниматься бытом чуть меньше подруги.
Накануне Второй мировой войны из-за какого-то нелепого случая при встрече Вулф разобиделась на Окампо (якобы, та убеждала ее фотографироваться, зная, что Вирджиния терпеть этого не может), и целый год не отправляла писем в Буэнос-Айрес.
20 мая 1940 года, то есть за год до смерти, она все же написала Окампо – оказалось, это было последнее письмо.
Дорогая Виктория,
Я задолжала вам письмо. А лучше сказать, я задолжала вам свои извинения. Наверное, именно поэтому я так долго откладывала и не писала. А теперь все кажется таким далеким... этот визит и та фотосъемка, из-за которой я вела себя так нагло.
Я потеряла адрес Мадам Жизель и даже ее фамилию.
Если вы когда-нибудь свяжетесь с ней, пожалуйста, объясните ей, что я пригласила бы ее приехать, если бы не война. И объясните еще, что моя нелюбовь фотографироваться на цветную пленку связана со старым комплексом: я ненавижу, когда личность, внешность автора идет впереди его произведений.
Но хватит об этом.
Моя невоспитанность в тот день была вызвана уверенностью, что вы знали о моем нежелании фотографироваться, а это было не так. Вы совершенно ни в чем не были виноваты.
Если Лондон устоит, и если мы еще будем живы, то в следующий раз, когда приедете в Англию, приходите ко мне в гости в наш новый дом (если его не разбомбят) на Мекленбург-сквер, 37. Даже сюда могут добраться немцы.
Впрочем, не буду писать то, что и так можно прочесть в любой газете. Все это лишь для того, чтобы извиниться перед вами, поблагодарить вас и отправить вам через океан мою любовь.
Ваша
Вирджиния Вулф
Вулф, конечно, в этих отношениях была звездой, а Окампо восхищалась ей. Она постоянно искала возможности с ней встретиться, когда приезжала в Европу из Аргентины, половина переписки – это попытки договориться, в каком городе они увидятся. Мадрид, Париж, Лондон? Окампо через океан отправляла Вирджинии саженцы южноамериканских цветов, а та сажала их у себя в саду. А еще Окампо отправляла ей бабочек (не очень понимаю, как она это технически делала, но уж как-то делала). Вулф, в свою очередь, всегда подбадривала вечно сомневающуюся подругу, и верила в ее талант. А еще постоянно спрашивала, не нашла ли Виктория кого-то подходящего в Аргентине для издания своих романов на испанском.
Еще любопытная деталь – Вирджиния пишет Окампо всегда в спешке, у нее хозяйство, заботы, быт. Окампо происходила из влиятельной и богатой семьи (какой у нее роскошный особняк в пригороде Буэнос-Айреса!), и ей, в принципе, можно было заниматься бытом чуть меньше подруги.
Накануне Второй мировой войны из-за какого-то нелепого случая при встрече Вулф разобиделась на Окампо (якобы, та убеждала ее фотографироваться, зная, что Вирджиния терпеть этого не может), и целый год не отправляла писем в Буэнос-Айрес.
20 мая 1940 года, то есть за год до смерти, она все же написала Окампо – оказалось, это было последнее письмо.
Дорогая Виктория,
Я задолжала вам письмо. А лучше сказать, я задолжала вам свои извинения. Наверное, именно поэтому я так долго откладывала и не писала. А теперь все кажется таким далеким... этот визит и та фотосъемка, из-за которой я вела себя так нагло.
Я потеряла адрес Мадам Жизель и даже ее фамилию.
Если вы когда-нибудь свяжетесь с ней, пожалуйста, объясните ей, что я пригласила бы ее приехать, если бы не война. И объясните еще, что моя нелюбовь фотографироваться на цветную пленку связана со старым комплексом: я ненавижу, когда личность, внешность автора идет впереди его произведений.
Но хватит об этом.
Моя невоспитанность в тот день была вызвана уверенностью, что вы знали о моем нежелании фотографироваться, а это было не так. Вы совершенно ни в чем не были виноваты.
Если Лондон устоит, и если мы еще будем живы, то в следующий раз, когда приедете в Англию, приходите ко мне в гости в наш новый дом (если его не разбомбят) на Мекленбург-сквер, 37. Даже сюда могут добраться немцы.
Впрочем, не буду писать то, что и так можно прочесть в любой газете. Все это лишь для того, чтобы извиниться перед вами, поблагодарить вас и отправить вам через океан мою любовь.
Ваша
Вирджиния Вулф
Люблю читать отзывы испаноязычных читателей на goodreads - мало где встретишь такую искренность и прямоту, вот, например, некая Элизе Салазар пишет об одной книжке довольно уже классического кубинского автора:
Очень сложно для меня!! Это вот совсем не тот тип чтения, к которому я привыкла!!
No me gusta eso, в общем.
Ох, Лиза, Лиза, всем бы вашу честность.
Очень сложно для меня!! Это вот совсем не тот тип чтения, к которому я привыкла!!
No me gusta eso, в общем.
Ох, Лиза, Лиза, всем бы вашу честность.
Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки, манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой?
Захотелось сказать, что читаю сейчас книжку одного испанского автора, пока не буду говорить какого, и вот дело в ней происходит во франкистской Испании (вообще, если бы вы знали, сколько романов написано о печальной жизни во франкистской Испании, то уже никогда бы не сказали «боже, еще одна книжка о репрессиях ну сколько можно»).
Так вот, главный герой, симпатичный юноша, мечтает о двух вещах, поступить в киношколу и прикурить сигаретку Аве Гарднер. Этот парнишка однажды так помешался на своей Гарднер, что украл с выставки ее фотографию. Его догнала охрана, сдала полиции, а полиция в те времена была почти вся заточена на поиски политических преступников, так что даже если ты не политический, то станешь им. И вот бросают нашего героя в тюрьму с вольнодумцами-студентами, потом ведут на допрос, спрашивают о политических взглядах, а у него даже и нет их вообще, он говорит, политика его ну никак не занимает, потому что он про эстетику, даже не про этику. Но у него в записной книжке находят заметки для предполагаемого будущего фильма, и там есть одна сцена из детства, где его друг что-то такое плохое сказал про Франко, не то чтобы это было очень осмысленно, но, естественно, полиции уже все равно до всей этой этики и эстетики, и слова «это просто литература, черновики» парня не спасают, так что его ставят на колени, избивают и душат, и так много раз по кругу и много дней подряд.
И на фоне всего этого великолепия застенок описывается Мадрид, куда – невзирая на ту самую диктатуру Франко – часто приезжают и Ава Гарднер, и другие голливудские звезды, и писатели, и интеллектуалы, потому что, черт возьми, дешево, это во-первых, а во-вторых – какой роскошный Мадрид, и какие вкусные там коктейли, и как весело, и еще раз ах какой город, посмотрите, ну какой же прекрасный город.
Так вот, главный герой, симпатичный юноша, мечтает о двух вещах, поступить в киношколу и прикурить сигаретку Аве Гарднер. Этот парнишка однажды так помешался на своей Гарднер, что украл с выставки ее фотографию. Его догнала охрана, сдала полиции, а полиция в те времена была почти вся заточена на поиски политических преступников, так что даже если ты не политический, то станешь им. И вот бросают нашего героя в тюрьму с вольнодумцами-студентами, потом ведут на допрос, спрашивают о политических взглядах, а у него даже и нет их вообще, он говорит, политика его ну никак не занимает, потому что он про эстетику, даже не про этику. Но у него в записной книжке находят заметки для предполагаемого будущего фильма, и там есть одна сцена из детства, где его друг что-то такое плохое сказал про Франко, не то чтобы это было очень осмысленно, но, естественно, полиции уже все равно до всей этой этики и эстетики, и слова «это просто литература, черновики» парня не спасают, так что его ставят на колени, избивают и душат, и так много раз по кругу и много дней подряд.
И на фоне всего этого великолепия застенок описывается Мадрид, куда – невзирая на ту самую диктатуру Франко – часто приезжают и Ава Гарднер, и другие голливудские звезды, и писатели, и интеллектуалы, потому что, черт возьми, дешево, это во-первых, а во-вторых – какой роскошный Мадрид, и какие вкусные там коктейли, и как весело, и еще раз ах какой город, посмотрите, ну какой же прекрасный город.