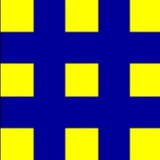Старинные башни Гуанчжоу
1.Цветочная пагода храма Шести баньянов
Построена в 1097 году, восстановлена в 1373 году после очередного пожара в период правления династии Мин и отреставрирована в 1900 году (фото 1).
2.Минарет мечети Хуайшэн
Традиционно считается, что мечеть построена в VII веке и является старейшей в Китае. 36-метровый минарет долгое время был самым высоким сооружением Гуанчжоу и служил также маяком (фото 2-3: минарет и вход в мечеть).
3.Пагода захоронения волос храма Гуансяо
Считается, что под ней хранятся волосы шестого патриарха чань-буддизма Хуэйнэна, в 676 году принявшего здесь посвящение в монахи (фото 4).
4.Западная и Восточная башни храма Гуансяо
Две железные пагоды, являются старейшими из существующих железных башен в Китае. Построенная в 963 году при династии Южная Хань (907-960 гг.) Западная башня первоначально была семиярусной, но сейчас сохранились только три нижних яруса (фото 5).
Восточная башня была построена в 967 году. Квадратная по форме, она имеет семь ярусов высотой 7,69 метра. Ее трудно обнаружить - она находится сбоку от основной территории храма и спрятана за замком в специально сооруженном для ее защиты современном здании (фото 6).
1.Цветочная пагода храма Шести баньянов
Построена в 1097 году, восстановлена в 1373 году после очередного пожара в период правления династии Мин и отреставрирована в 1900 году (фото 1).
2.Минарет мечети Хуайшэн
Традиционно считается, что мечеть построена в VII веке и является старейшей в Китае. 36-метровый минарет долгое время был самым высоким сооружением Гуанчжоу и служил также маяком (фото 2-3: минарет и вход в мечеть).
3.Пагода захоронения волос храма Гуансяо
Считается, что под ней хранятся волосы шестого патриарха чань-буддизма Хуэйнэна, в 676 году принявшего здесь посвящение в монахи (фото 4).
4.Западная и Восточная башни храма Гуансяо
Две железные пагоды, являются старейшими из существующих железных башен в Китае. Построенная в 963 году при династии Южная Хань (907-960 гг.) Западная башня первоначально была семиярусной, но сейчас сохранились только три нижних яруса (фото 5).
Восточная башня была построена в 967 году. Квадратная по форме, она имеет семь ярусов высотой 7,69 метра. Ее трудно обнаружить - она находится сбоку от основной территории храма и спрятана за замком в специально сооруженном для ее защиты современном здании (фото 6).
Анархизм и академия
В своей старой, но по-прежнему актуальной для многих из нас работе Джефф Шанц развенчивает тезисы антрополога Дэвида Грэбера об отсутствии анархистов в академии.
1. Некоторые анархисты/анархистки заняли позиции в известных университетах, как, например, социолог Ричард Дэй в Университете Куинс в Канаде, историк Рут Кинна в Университете Лафборо в Великобритании или сам Грэбер.
2. Грэбер также задается вопросом, почему не существует анархистской социологии, анархистской экономики, анархистской теории литературы или анархистской политологии. Ставя эти вопросы и не признавая, что на каком-то уровне анархистские версии каждой из этих «дисциплин» существуют, Грэбер выдает то, что на самом деле лежит в основе его беспокойства. Это существование академических или профессиональных версий анархистской мысли в этих областях и принятие анархистских теорий в рамках устоявшихся академических дисциплин и институтов.
На самом деле, задавая вопрос: «Почему нет анархистской социологии?» Грэбер полностью упускает из виду значительные социологические работы таких людей, как Колин Уорд, Пол Гудман и Джон Гриффин, и это лишь некоторые. То же самое можно сказать и о значительном вкладе в анархистскую экономику таких людей как Том Ветцель и Ларри Гамбон. Примечательно, что эти авторы, несмотря на то, что они чрезвычайно важны для развития современной анархистской мысли и влиятельны в анархистских кругах, занимают лишь незначительные места в академической социологии или кругах экономистов, если вообще занимают. Таким образом, проблема заключается не столько в существовании анархистской социологии, сколько в ее признании, принятии и легитимации среди академиков или профессиональных социологов. Любопытно, что Грэбер даже не замечает вклада анархистских социологов, которым удалось ввести анархистскую теорию в академические круги, таких как Лоуренс Тиффт и Джефф Феррелл, и это опять-таки лишь некоторые.
То же самое происходит и при обращении к антропологии. Грэбер утверждает, что «анархистской антропологии на самом деле не существует», а затем ставит своей задачей заложить основу для такой теории и практики. Тем не менее, делая такое заявление, и более того, выставляя себя в качестве человека, который должен исправить ситуацию, Грэбер оказывает медвежью услугу таким людям, как Гарольд Баркли, которые на протяжении десятилетий неустанно работали над созданием анархистской антропологии в признанных академических кругах. Любопытно, что имя Баркли нигде не встречается в работах Грэбера по этому вопросу.
Однако в свете желания Грэбера видеть анархизм признанным в академических кругах можно отметить, что многие анархисты весьма преуспели в разработке анализов, выходящих за рамки мейнстрима социальных наук. Неоценимый вклад в эту работу внесли конструктивные анархисты-теоретики, от Густава Ландауэра до Пола Гудмана и Колина Уорда. И снова проблема заключается не в отсутствии анархистской теории или теоретиков, а скорее в принятии этих теорий и теоретиков в академических кругах.
В своей старой, но по-прежнему актуальной для многих из нас работе Джефф Шанц развенчивает тезисы антрополога Дэвида Грэбера об отсутствии анархистов в академии.
1. Некоторые анархисты/анархистки заняли позиции в известных университетах, как, например, социолог Ричард Дэй в Университете Куинс в Канаде, историк Рут Кинна в Университете Лафборо в Великобритании или сам Грэбер.
2. Грэбер также задается вопросом, почему не существует анархистской социологии, анархистской экономики, анархистской теории литературы или анархистской политологии. Ставя эти вопросы и не признавая, что на каком-то уровне анархистские версии каждой из этих «дисциплин» существуют, Грэбер выдает то, что на самом деле лежит в основе его беспокойства. Это существование академических или профессиональных версий анархистской мысли в этих областях и принятие анархистских теорий в рамках устоявшихся академических дисциплин и институтов.
На самом деле, задавая вопрос: «Почему нет анархистской социологии?» Грэбер полностью упускает из виду значительные социологические работы таких людей, как Колин Уорд, Пол Гудман и Джон Гриффин, и это лишь некоторые. То же самое можно сказать и о значительном вкладе в анархистскую экономику таких людей как Том Ветцель и Ларри Гамбон. Примечательно, что эти авторы, несмотря на то, что они чрезвычайно важны для развития современной анархистской мысли и влиятельны в анархистских кругах, занимают лишь незначительные места в академической социологии или кругах экономистов, если вообще занимают. Таким образом, проблема заключается не столько в существовании анархистской социологии, сколько в ее признании, принятии и легитимации среди академиков или профессиональных социологов. Любопытно, что Грэбер даже не замечает вклада анархистских социологов, которым удалось ввести анархистскую теорию в академические круги, таких как Лоуренс Тиффт и Джефф Феррелл, и это опять-таки лишь некоторые.
То же самое происходит и при обращении к антропологии. Грэбер утверждает, что «анархистской антропологии на самом деле не существует», а затем ставит своей задачей заложить основу для такой теории и практики. Тем не менее, делая такое заявление, и более того, выставляя себя в качестве человека, который должен исправить ситуацию, Грэбер оказывает медвежью услугу таким людям, как Гарольд Баркли, которые на протяжении десятилетий неустанно работали над созданием анархистской антропологии в признанных академических кругах. Любопытно, что имя Баркли нигде не встречается в работах Грэбера по этому вопросу.
Однако в свете желания Грэбера видеть анархизм признанным в академических кругах можно отметить, что многие анархисты весьма преуспели в разработке анализов, выходящих за рамки мейнстрима социальных наук. Неоценимый вклад в эту работу внесли конструктивные анархисты-теоретики, от Густава Ландауэра до Пола Гудмана и Колина Уорда. И снова проблема заключается не в отсутствии анархистской теории или теоретиков, а скорее в принятии этих теорий и теоретиков в академических кругах.
Анархизм и академия
3. Не преувеличена ли в целом такая озабоченность, если не сказать, неуместна? Насколько необходимо вообще это сотрудничество анархистов с академией? Что дает отход от социальной борьбы к научной деятельности, большая часть которой связана с работой на кафедре и профессиональным развитием?
Как писала Бет Хартунг: «Как только теория переносится с улиц или фабрик в академию, возникает риск того, что революционный потенциал будет подорван наукой…; другими словами, знание становится технологией». Настоящая проблема заключается в существовании иерархической и неэгалитарной социальной структуры, которая разделяет и возвышает производство знаний таким образом, чтобы воспроизводить существование университетов как эксклюзивных и привилегированных институтов. За последние два десятилетия, в основном благодаря усердной работе феминистских и антирасистских исследователей, произошел переход к исследованиям, основанным на участии и сообществе. Это, безусловно, стало улучшением по сравнению с временами грандиозной теории, придуманной в кресле, и социальной науки, состоящей из опросов, статистики и социальных субъектов. В то же время все эти новые исследования, независимо от того, насколько они «основаны на сообществах», по-прежнему проводятся в рамках авторитарной и неравноправной политической экономики производства знаний и обусловлены ее существованием. Присутствие еще сотни или тысячи профессоров-анархистов в освященных залах изменит ситуацию не больше, чем присутствие там нескольких тысяч академиков-марксистов в течение нескольких десятилетий.
Вместо того, чтобы разрушать стены между мантией и городом, головой и рукой, академиком и любителем, приход анархистов в академию может просто воспроизвести, укрепить и даже узаконить политические и экономические структуры академии. Это, безусловно, придаст определенный блеск заявлениям тех консервативных ученых, которые любят кричать об академической свободе и открытости неолиберального университета: «Смотрите, мы никого не исключаем. Мы даже позволяем анархистам занять место за столом».
Важнее то, что происходит, когда анархисты под давлением «публикуйся или погибнешь», связанным с продвижением по службе и стремлением к получению статуса, начинают подгонять анархизм под язык и ожидания академического производства знаний, а не наоборот. Вместо того, чтобы ломать исключительность академических дискурсов, они начинают воспроизводить тексты, направленные в первую очередь на других ученых, затрагивающие вопросы, которые волнуют почти исключительно ученых, на специализированном языке, который наиболее знаком ученым. Такие подходы противоречат антиавангардистской приверженности, разделяемой большинством анархистов.
Это был один из фатальных недостатков академического марксизма. Взять язык народа, рожденный его борьбой и чаяниями, и превратить его в нечто далекое, абстрактное и недоступное для людей, которые теперь превратились не более чем в пассивные объекты изучения или «социальные индикаторы». Большая часть академического марксизма стала еще одним вариантом большой теории, чем-то вроде салонной игры, захватывающей своими идеями, но не имеющей особого социального значения. Не может ли то же самое произойти с анархизмом?
В целом, заключает Шанц, акцент должен оставаться на использовании академической работы для информирования и обогащения анархистского анализа, а не на использовании анархистского анализа для поддержки академических дисциплин или теоретических позиций, которые имеют мало связи с жизнью людей.
3. Не преувеличена ли в целом такая озабоченность, если не сказать, неуместна? Насколько необходимо вообще это сотрудничество анархистов с академией? Что дает отход от социальной борьбы к научной деятельности, большая часть которой связана с работой на кафедре и профессиональным развитием?
Как писала Бет Хартунг: «Как только теория переносится с улиц или фабрик в академию, возникает риск того, что революционный потенциал будет подорван наукой…; другими словами, знание становится технологией». Настоящая проблема заключается в существовании иерархической и неэгалитарной социальной структуры, которая разделяет и возвышает производство знаний таким образом, чтобы воспроизводить существование университетов как эксклюзивных и привилегированных институтов. За последние два десятилетия, в основном благодаря усердной работе феминистских и антирасистских исследователей, произошел переход к исследованиям, основанным на участии и сообществе. Это, безусловно, стало улучшением по сравнению с временами грандиозной теории, придуманной в кресле, и социальной науки, состоящей из опросов, статистики и социальных субъектов. В то же время все эти новые исследования, независимо от того, насколько они «основаны на сообществах», по-прежнему проводятся в рамках авторитарной и неравноправной политической экономики производства знаний и обусловлены ее существованием. Присутствие еще сотни или тысячи профессоров-анархистов в освященных залах изменит ситуацию не больше, чем присутствие там нескольких тысяч академиков-марксистов в течение нескольких десятилетий.
Вместо того, чтобы разрушать стены между мантией и городом, головой и рукой, академиком и любителем, приход анархистов в академию может просто воспроизвести, укрепить и даже узаконить политические и экономические структуры академии. Это, безусловно, придаст определенный блеск заявлениям тех консервативных ученых, которые любят кричать об академической свободе и открытости неолиберального университета: «Смотрите, мы никого не исключаем. Мы даже позволяем анархистам занять место за столом».
Важнее то, что происходит, когда анархисты под давлением «публикуйся или погибнешь», связанным с продвижением по службе и стремлением к получению статуса, начинают подгонять анархизм под язык и ожидания академического производства знаний, а не наоборот. Вместо того, чтобы ломать исключительность академических дискурсов, они начинают воспроизводить тексты, направленные в первую очередь на других ученых, затрагивающие вопросы, которые волнуют почти исключительно ученых, на специализированном языке, который наиболее знаком ученым. Такие подходы противоречат антиавангардистской приверженности, разделяемой большинством анархистов.
Это был один из фатальных недостатков академического марксизма. Взять язык народа, рожденный его борьбой и чаяниями, и превратить его в нечто далекое, абстрактное и недоступное для людей, которые теперь превратились не более чем в пассивные объекты изучения или «социальные индикаторы». Большая часть академического марксизма стала еще одним вариантом большой теории, чем-то вроде салонной игры, захватывающей своими идеями, но не имеющей особого социального значения. Не может ли то же самое произойти с анархизмом?
В целом, заключает Шанц, акцент должен оставаться на использовании академической работы для информирования и обогащения анархистского анализа, а не на использовании анархистского анализа для поддержки академических дисциплин или теоретических позиций, которые имеют мало связи с жизнью людей.
Деревня Юлин - одна из немногих сохранившихся и жилых деревень бапай яо высоко в горах северного Гуандуна.