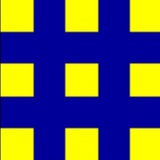Таманг Гомпа
Посетил сейчас в Катманду монастырь Таманг Гомпа рядом со ступой Боднатх. Таманги - коренной народ, проживающий в горных районах Непала. Их генетическое наследие в основном тибетское, но прослеживаются и монгольские корни. В Непале таманги составляют около 7 % населения. В силу культурных традиций тамангам было запрещено вступать в брак с представителями других этнических групп, что привело к определенным генетическим проблемам внутри кланов. Хотя происхождение тамангов можно проследить до Монголии, важно отметить, что эта группа была представлена в Непале еще до образования государства.
Таманги придерживаются тибетской школы Ваджраяны или тантрического буддизма. В этой традиции принято, чтобы дети лам женились на детях других лам. В тамангском обществе ритуалы, связанные со смертью, пользуются наибольшим уважением. Многие фрески в тамангских монастырях, и в том числе в Таманг Гомпа, изображают смерть или колесо жизни.
Различные правители донепальского королевства Горкха (1559 - 1768) проводили кампании против коренных тамангов. В «Горкха Вамсавали» подробно описаны сражения с тамангами из разных княжеств. В 1739 году вождь тамангов по имени Гхале-Ботя напал на короля Нарабхупал-шаха, когда тот шел к Нувакоту, а Нарабхупал-шах также провел несколько сражений с Голма Гхале (Гьялпо). В 1762 году король Притхви Нараян Шах напал на тамангов в Темале, их культурном центре. Устная история тамангов гласит, что местный вождь Ринджен Дордже был убит горкхами. Горкхи спрятали свое оружие в песке на берегу реки Сункоши, чтобы напасть на тамангские войска. После этого горкхи вымыли свое оружие в источниках в Дапча Кувапани, поэтому современные таманги не пьют из них. Подобные истории встречаются в устных преданиях по всему региону.
Таманги участвовали в китайско-непальской войне (1788-1792 гг.), также известной как китайско-горкхская война, а на китайском языке - Горкхская кампания (廓爾喀之役). Изначально война велась между непальскими горкхами и тибетскими войсками из-за торгового спора, связанного с давней проблемой некачественных монет, производимых Непалом для Тибета. Несколько сотен человек в конце концов осели в Тибете; в Китае они известны как народ даман. Ранее они не имели гражданства, с 2003 года китайское правительство причисляет их к этническим тибетцам.
Посетил сейчас в Катманду монастырь Таманг Гомпа рядом со ступой Боднатх. Таманги - коренной народ, проживающий в горных районах Непала. Их генетическое наследие в основном тибетское, но прослеживаются и монгольские корни. В Непале таманги составляют около 7 % населения. В силу культурных традиций тамангам было запрещено вступать в брак с представителями других этнических групп, что привело к определенным генетическим проблемам внутри кланов. Хотя происхождение тамангов можно проследить до Монголии, важно отметить, что эта группа была представлена в Непале еще до образования государства.
Таманги придерживаются тибетской школы Ваджраяны или тантрического буддизма. В этой традиции принято, чтобы дети лам женились на детях других лам. В тамангском обществе ритуалы, связанные со смертью, пользуются наибольшим уважением. Многие фрески в тамангских монастырях, и в том числе в Таманг Гомпа, изображают смерть или колесо жизни.
Различные правители донепальского королевства Горкха (1559 - 1768) проводили кампании против коренных тамангов. В «Горкха Вамсавали» подробно описаны сражения с тамангами из разных княжеств. В 1739 году вождь тамангов по имени Гхале-Ботя напал на короля Нарабхупал-шаха, когда тот шел к Нувакоту, а Нарабхупал-шах также провел несколько сражений с Голма Гхале (Гьялпо). В 1762 году король Притхви Нараян Шах напал на тамангов в Темале, их культурном центре. Устная история тамангов гласит, что местный вождь Ринджен Дордже был убит горкхами. Горкхи спрятали свое оружие в песке на берегу реки Сункоши, чтобы напасть на тамангские войска. После этого горкхи вымыли свое оружие в источниках в Дапча Кувапани, поэтому современные таманги не пьют из них. Подобные истории встречаются в устных преданиях по всему региону.
Таманги участвовали в китайско-непальской войне (1788-1792 гг.), также известной как китайско-горкхская война, а на китайском языке - Горкхская кампания (廓爾喀之役). Изначально война велась между непальскими горкхами и тибетскими войсками из-за торгового спора, связанного с давней проблемой некачественных монет, производимых Непалом для Тибета. Несколько сотен человек в конце концов осели в Тибете; в Китае они известны как народ даман. Ранее они не имели гражданства, с 2003 года китайское правительство причисляет их к этническим тибетцам.
Паренаго в Березовке
В Алексине раз в два года проходят Сахаровские чтения. Названы они так не в честь академика-диссидента Андрея Дмитриевича Сахарова, как можно было бы по ошибке подумать, а в честь этнографа-фольклориста Ивана Петровича Сахарова (1807 - 1863). В этом году и я принял в них участие, правда, заочно - с докладом о биографии адмирала Александра Николаевича Паренаго (1847 - 1908). Несколько лет назад я случайно обнаружил его могильную плиту на разрушенном и разграбленном церковном кладбище у нас в деревне. Вместе с гостившим у меня другом и еще несколькими ребятами выкопал ее из земли и перевернул - она лежала лицевой стороной вниз. В тот год я вернулся из Китая, друг мой - японец, а большая часть жизненного пути адмирала оказалась связана с Китаем и Японией - он участвовал в занятии Порт-Артура и готовил корабли к Цусиме. Мне показалось это несколько символичным, и я взялся за долгую работу над книгой об адмирале и событиях, в которых он сыграл роль.
Деревня наша почти вымерла, в ней всего один житель, а остальные - дачники. Деревянная церковь, при которой когда-то было кладбище, пережила революцию и войну, но в 1960-е была разобрана на дрова. Не так давно я узнал, что мои родственники много-много лет назад были священниками этой самой церкви. Так что теперь я назначил себя не только ответственным за сохранение исторической памяти об адмирале Паренаго, но и за память всей деревни, точнее, того, что от нее осталось - фундамента церкви, вросших в землю могильных плит, рва вокруг и пары печальных берез.
В Алексине раз в два года проходят Сахаровские чтения. Названы они так не в честь академика-диссидента Андрея Дмитриевича Сахарова, как можно было бы по ошибке подумать, а в честь этнографа-фольклориста Ивана Петровича Сахарова (1807 - 1863). В этом году и я принял в них участие, правда, заочно - с докладом о биографии адмирала Александра Николаевича Паренаго (1847 - 1908). Несколько лет назад я случайно обнаружил его могильную плиту на разрушенном и разграбленном церковном кладбище у нас в деревне. Вместе с гостившим у меня другом и еще несколькими ребятами выкопал ее из земли и перевернул - она лежала лицевой стороной вниз. В тот год я вернулся из Китая, друг мой - японец, а большая часть жизненного пути адмирала оказалась связана с Китаем и Японией - он участвовал в занятии Порт-Артура и готовил корабли к Цусиме. Мне показалось это несколько символичным, и я взялся за долгую работу над книгой об адмирале и событиях, в которых он сыграл роль.
Деревня наша почти вымерла, в ней всего один житель, а остальные - дачники. Деревянная церковь, при которой когда-то было кладбище, пережила революцию и войну, но в 1960-е была разобрана на дрова. Не так давно я узнал, что мои родственники много-много лет назад были священниками этой самой церкви. Так что теперь я назначил себя не только ответственным за сохранение исторической памяти об адмирале Паренаго, но и за память всей деревни, точнее, того, что от нее осталось - фундамента церкви, вросших в землю могильных плит, рва вокруг и пары печальных берез.
Крематорий в Катманду
В голове крутились слова из песенки «Крематория»:
Чистили спиртом пищевод
Ходили спьяну на войну
Но не дождавшись победного конца
Возвращались поутру
В свое родное Катманду
И тут я очутился в настоящем крематории - в индуистском храме Пашупатинатх, где на берегу реки Багмати сжигали тела перед тем, как отправить то, что от них осталось, в плавание вдаль по воде...
В голове крутились слова из песенки «Крематория»:
Чистили спиртом пищевод
Ходили спьяну на войну
Но не дождавшись победного конца
Возвращались поутру
В свое родное Катманду
И тут я очутился в настоящем крематории - в индуистском храме Пашупатинатх, где на берегу реки Багмати сжигали тела перед тем, как отправить то, что от них осталось, в плавание вдаль по воде...
Драка диакона с пономарем
Наткнулся на смешной рассказ у писателя Дмитрия Крюкова о том, как в 1866 году подрался мой родственник диакон Иван Бардов с его родственником пономарем Степаном Третьяковым. Версии участников и свидетелей события кардинально разнятся - как в рассказе Акутагавы «В чаще». Начинается повествование с такого замечательного показания Ивана Бардова:
«Виновным по доносу на меня благочинного я себя не признаю, и начинщиком драки был пономарь наш Стефан Третьяков, который 9-го июля сего года в 4 часа вечера в пьяном виде неизвестно зачем пришел ко мне в дом. Я же сам в это время сидел на постели в холодной избе совершенно в трезвом виде, а не пьяный, как доносит на меня благочинный; был же я выпимши до драки часа за три, при том не более как для подкрепления телесных сил.
Пономарь наш Стефан Третьяков, пришедши ко мне в дом и подошедши к кровати моей, сказал: «Вставай, диаконишка, хочешь пить вино?», ругая меня матерными словами, я же на это ни слова не сказал. Рассерженный пономарь взял меня за ворот рубашки, которую и разорвал, ударил меня по шее, потащил в другую избу с прибавлением матерных слов: «Что же ты, верно, не хочешь пить вино?» Я ему сказал: «Зачем ты пришел? Выйди вон, тебе стыдно пить вино, ты еще мальчишка, за что ты меня ударил и за что притащил меня в другую избу?» Я, видя, что пономарь пришел в сильную азартность, закричал караул, но пономарь сказал: «Как, я еще молод пить вино?» Поставивши меня, ударил кулаком по раме и разбил оную на мелкие части, приговаривая: «Вот же тебе, кричи караул, за одно отвечать»; потом взял меня за волосы, повалил меня на пол и моею головой разбил ширмы, стоящие при кровати, прошиб голову до крови, сел на меня верхом и бил меня по голове, бокам и по лицу, отчего была у меня сильная синета под глазами и лицо было исцарапано, что видел отец благочинный и староста церковный, который на другой день приехал к службе, и другие прихожане, именно: деревни Макарова крестьянин Василий Михайлов, деревни Боровина сельский староста Козьма Стефанов.
После сего пономарь вытащил меня на улицу и повалил меня около моего дома на землю, устланную кирпичами, и бил меня, что видела крестьянка Василиса Федорова и дьяческая жена вдова Стефанида Павлова. Малые дети мои и работница, испугавшись драки, выбежали на улицу и кричали караул, но, к несчастию их, не было никого из крестьян, кроме показанных женщин, все были на покосе. Дочь моя шестнадцатилетняя Мария побежала к благочинному и объявила ему, что пономарь бьет меня.
Благочинный, который в это время и сам был выпивши, пришел к крыльцу моего дома (сам же я с земли встал и от слабости и боли прислонился к перилам крыльца), начал ругать пономаря, говоря ему: «Что ты сделал? Ты теперь подобен солдату», но пономарь, ругая меня при благочинном матерными словами, сказал ему в ответ: «Что же, разве я не отслужу в солдатах, такой молодчина!» Благочинный хотел было сам связать ему руки, но видя, что ему с ним не сладить, пошел к сельскому старосте, который в это время был на покосе; драка наша с пономарем в этот день оставлена была безо всякого внимания со стороны благочинного.
Пономарь же Третьяков не оставлял своего буйства, угрожал мне, говоря: «Пойду в кабак и напьюсь еще сильнее, и тебя, диакон, еще подовторю»; куда он и действительно отправился, и просил у сидельца вина, но он ему не дал, видя и без того сильно пьяным. Пономарь, рассердившись, сел на лавку к бочке и ногой разбил было дно бочки, из которой посочилось вино, что может подтвердить сын сидельца Василий Андреев и отец его Андрей Дмитриев. С жалобою я к благочинному на пономаря в этот же вечер не приходил, потому что я сильно был избит пономарем, а посылал за ним на другой день после драки дочь свою с прошением...»
Наткнулся на смешной рассказ у писателя Дмитрия Крюкова о том, как в 1866 году подрался мой родственник диакон Иван Бардов с его родственником пономарем Степаном Третьяковым. Версии участников и свидетелей события кардинально разнятся - как в рассказе Акутагавы «В чаще». Начинается повествование с такого замечательного показания Ивана Бардова:
«Виновным по доносу на меня благочинного я себя не признаю, и начинщиком драки был пономарь наш Стефан Третьяков, который 9-го июля сего года в 4 часа вечера в пьяном виде неизвестно зачем пришел ко мне в дом. Я же сам в это время сидел на постели в холодной избе совершенно в трезвом виде, а не пьяный, как доносит на меня благочинный; был же я выпимши до драки часа за три, при том не более как для подкрепления телесных сил.
Пономарь наш Стефан Третьяков, пришедши ко мне в дом и подошедши к кровати моей, сказал: «Вставай, диаконишка, хочешь пить вино?», ругая меня матерными словами, я же на это ни слова не сказал. Рассерженный пономарь взял меня за ворот рубашки, которую и разорвал, ударил меня по шее, потащил в другую избу с прибавлением матерных слов: «Что же ты, верно, не хочешь пить вино?» Я ему сказал: «Зачем ты пришел? Выйди вон, тебе стыдно пить вино, ты еще мальчишка, за что ты меня ударил и за что притащил меня в другую избу?» Я, видя, что пономарь пришел в сильную азартность, закричал караул, но пономарь сказал: «Как, я еще молод пить вино?» Поставивши меня, ударил кулаком по раме и разбил оную на мелкие части, приговаривая: «Вот же тебе, кричи караул, за одно отвечать»; потом взял меня за волосы, повалил меня на пол и моею головой разбил ширмы, стоящие при кровати, прошиб голову до крови, сел на меня верхом и бил меня по голове, бокам и по лицу, отчего была у меня сильная синета под глазами и лицо было исцарапано, что видел отец благочинный и староста церковный, который на другой день приехал к службе, и другие прихожане, именно: деревни Макарова крестьянин Василий Михайлов, деревни Боровина сельский староста Козьма Стефанов.
После сего пономарь вытащил меня на улицу и повалил меня около моего дома на землю, устланную кирпичами, и бил меня, что видела крестьянка Василиса Федорова и дьяческая жена вдова Стефанида Павлова. Малые дети мои и работница, испугавшись драки, выбежали на улицу и кричали караул, но, к несчастию их, не было никого из крестьян, кроме показанных женщин, все были на покосе. Дочь моя шестнадцатилетняя Мария побежала к благочинному и объявила ему, что пономарь бьет меня.
Благочинный, который в это время и сам был выпивши, пришел к крыльцу моего дома (сам же я с земли встал и от слабости и боли прислонился к перилам крыльца), начал ругать пономаря, говоря ему: «Что ты сделал? Ты теперь подобен солдату», но пономарь, ругая меня при благочинном матерными словами, сказал ему в ответ: «Что же, разве я не отслужу в солдатах, такой молодчина!» Благочинный хотел было сам связать ему руки, но видя, что ему с ним не сладить, пошел к сельскому старосте, который в это время был на покосе; драка наша с пономарем в этот день оставлена была безо всякого внимания со стороны благочинного.
Пономарь же Третьяков не оставлял своего буйства, угрожал мне, говоря: «Пойду в кабак и напьюсь еще сильнее, и тебя, диакон, еще подовторю»; куда он и действительно отправился, и просил у сидельца вина, но он ему не дал, видя и без того сильно пьяным. Пономарь, рассердившись, сел на лавку к бочке и ногой разбил было дно бочки, из которой посочилось вино, что может подтвердить сын сидельца Василий Андреев и отец его Андрей Дмитриев. С жалобою я к благочинному на пономаря в этот же вечер не приходил, потому что я сильно был избит пономарем, а посылал за ним на другой день после драки дочь свою с прошением...»
Ритуальный неварский танец в масках Навадурга (девять воплощений богини-матери) на улице Катманду
Мао Цзэдун
январь 1930 г.
Новый год
Нинхуа, Цинлю, Гуйхуа.
Узкий путь, скользкий мох, лес, трава.
Куда мы сегодня идём?
На гору Уи мы идём.
У этой горы, у этой горы
Красные флаги горят, как костры,
Колеблемы ветром едва.
Пер. с кит.— А. Сурков. Мао Цзэ-дун. Восемнадцать стихотворений. Под редакцией Н. Федоренко и Л. Эйдлина.— М.: «Правда», 1957.
январь 1930 г.
Новый год
Нинхуа, Цинлю, Гуйхуа.
Узкий путь, скользкий мох, лес, трава.
Куда мы сегодня идём?
На гору Уи мы идём.
У этой горы, у этой горы
Красные флаги горят, как костры,
Колеблемы ветром едва.
Пер. с кит.— А. Сурков. Мао Цзэ-дун. Восемнадцать стихотворений. Под редакцией Н. Федоренко и Л. Эйдлина.— М.: «Правда», 1957.