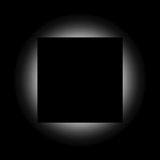Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видеоролик про исчезнувшие кладбища Москвы.
2 часть - Дорогомилово
2 часть - Дорогомилово
Что есть «норма»? И бывает ли «норма» одна на всех?
Опыт других стран. Франция.
Выдержка из книги «Музеи смерти».
«Мертвые парижане находились среди живых вплоть до Французской революции. Причем еще в конце Средневековья многие церковные погосты превратились по совместительству в светское пространство – по ним гуляли, на них торговали. Филипп Арьес пишет, что старые кладбища стали общественным форумом и местом встречи, а также рынком.
Католическая церковь всячески старалась изменить подобное отношение к кладбищу, но ни она, ни административные власти не преуспели в своих попытках урегулировать кладбищенский обиход местного населения. Из-за нехватки места для новых захоронений старые останки регулярно выкапывались и складывались по периметру кладбищенских стен. Останки бедняков ожидали общие могилы, иногда столь глубокие, что в них помещалось до 1500 трупов. Во время эпидемии чумы уровень смертности вырос, и все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя переполненными. Иногда из костей создавали своего рода архитектурные украшения.
На старейшем парижском кладбище Невинных занимались торговлей. В 18 веке на Saints-Innocents возникли своеобразные торговые ряды, где продавалась одежда, например дамские шляпы и белье, книги и гравюры. Кладбище также было местом народных сборищ: оно могло служить как для детских игр или свиданий, так и для непристойных занятий, например проституции. Не имевшие лицензии писари по дешевке составляли на плоских надгробиях «нелегальные» контракты и прочие документы. На кладбище всегда находились нищие, которые часто там и ночевали.
Таким образом, среди выпавших из переполненных оссуариев костей шла обычная светская жизнь. Она приостанавливалась только для погребений».
Из этого отрывка можно сделать вывод, что в разное время и в разных культурах отношение людей к смерти может быть диаметрально противоположным. То, что было нормой еще вчера сегодня уже неприемлемо и наоборот – современные тенденции могли бы показаться, по меньшей мере, непонятными людям других эпох.
Опыт других стран. Франция.
Выдержка из книги «Музеи смерти».
«Мертвые парижане находились среди живых вплоть до Французской революции. Причем еще в конце Средневековья многие церковные погосты превратились по совместительству в светское пространство – по ним гуляли, на них торговали. Филипп Арьес пишет, что старые кладбища стали общественным форумом и местом встречи, а также рынком.
Католическая церковь всячески старалась изменить подобное отношение к кладбищу, но ни она, ни административные власти не преуспели в своих попытках урегулировать кладбищенский обиход местного населения. Из-за нехватки места для новых захоронений старые останки регулярно выкапывались и складывались по периметру кладбищенских стен. Останки бедняков ожидали общие могилы, иногда столь глубокие, что в них помещалось до 1500 трупов. Во время эпидемии чумы уровень смертности вырос, и все кладбища, находившиеся в черте Парижа, оказались донельзя переполненными. Иногда из костей создавали своего рода архитектурные украшения.
На старейшем парижском кладбище Невинных занимались торговлей. В 18 веке на Saints-Innocents возникли своеобразные торговые ряды, где продавалась одежда, например дамские шляпы и белье, книги и гравюры. Кладбище также было местом народных сборищ: оно могло служить как для детских игр или свиданий, так и для непристойных занятий, например проституции. Не имевшие лицензии писари по дешевке составляли на плоских надгробиях «нелегальные» контракты и прочие документы. На кладбище всегда находились нищие, которые часто там и ночевали.
Таким образом, среди выпавших из переполненных оссуариев костей шла обычная светская жизнь. Она приостанавливалась только для погребений».
Из этого отрывка можно сделать вывод, что в разное время и в разных культурах отношение людей к смерти может быть диаметрально противоположным. То, что было нормой еще вчера сегодня уже неприемлемо и наоборот – современные тенденции могли бы показаться, по меньшей мере, непонятными людям других эпох.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видеоролик о производстве надмогильных и мемориальных сооружений
Почему хоронят на двухметровой глубине?
История возникновения стандарта.
Если перевести эту меру на английский язык, то это будет 6 футов. Сразу становится понятным расхожее выражение англичан: отправится на «на шесть футов вниз». В Англии этот стандарт закрепился во время эпидемии чумы. Тогда люди умирали прямо на улицах и хоронить их везли штабелями. Это был страшный 1655 год.
Остановить эпидемию было невозможно. Люди заражались друг от друга и от усопших, которых часто некому было убирать с улиц. Тогда глава лондонской префектуры приказал свозить умерших на кладбище и рыть для них глубокие ямы, не менее двух метров. С такой глубины инфекцию не вымоют дожди и будет большая вероятность, что она останется там навсегда.
Постепенно так стали делать по всей Европе. Сегодня это общепринятое понятие. Хотя не все согласны, что оно пришло из Лондона.
Почему сейчас хоронят на глубину 2 метра
Сегодня люди продолжают придерживаться принятой нормы, но поясняют это рядом причин, не связанных с чумой. Во-первых, 2 метра – это оптимальная глубина, чтобы не подвергать тело разрушительному воздействию грунтовых вод. К тому же, попадание в грунтовые воды человеческих останков не совсем приятное и цивилизованное решение. Это не только противоестественно, но и опасно.
Во-вторых, такая глубина не позволяет животным, например, бродячим собакам разрывать могилы. Бесспорно, этой глубины не всегда есть возможность придерживаться из-за разных климатических условий. Это территории каменистых пустынь и вечной мерзлоты. Здесь приходится принимать во внимание все факторы и выбирать оптимальный вариант.
История возникновения стандарта.
Если перевести эту меру на английский язык, то это будет 6 футов. Сразу становится понятным расхожее выражение англичан: отправится на «на шесть футов вниз». В Англии этот стандарт закрепился во время эпидемии чумы. Тогда люди умирали прямо на улицах и хоронить их везли штабелями. Это был страшный 1655 год.
Остановить эпидемию было невозможно. Люди заражались друг от друга и от усопших, которых часто некому было убирать с улиц. Тогда глава лондонской префектуры приказал свозить умерших на кладбище и рыть для них глубокие ямы, не менее двух метров. С такой глубины инфекцию не вымоют дожди и будет большая вероятность, что она останется там навсегда.
Постепенно так стали делать по всей Европе. Сегодня это общепринятое понятие. Хотя не все согласны, что оно пришло из Лондона.
Почему сейчас хоронят на глубину 2 метра
Сегодня люди продолжают придерживаться принятой нормы, но поясняют это рядом причин, не связанных с чумой. Во-первых, 2 метра – это оптимальная глубина, чтобы не подвергать тело разрушительному воздействию грунтовых вод. К тому же, попадание в грунтовые воды человеческих останков не совсем приятное и цивилизованное решение. Это не только противоестественно, но и опасно.
Во-вторых, такая глубина не позволяет животным, например, бродячим собакам разрывать могилы. Бесспорно, этой глубины не всегда есть возможность придерживаться из-за разных климатических условий. Это территории каменистых пустынь и вечной мерзлоты. Здесь приходится принимать во внимание все факторы и выбирать оптимальный вариант.
Почему мы переживаем, когда умирает незнакомый нам человек?
Почему сообщения в сводках новостей о разбившемся самолете или другой трагедии заставляют нас переживать за совершенно неизвестных нам людей? Эти вопросы поднимает в своей книге «Эгоистичный ген» английский этолог Ричард Докинз.
Он приходит к выводу, что существует эволюционно стабильная стратегия – переживать за себе подобного. Если любой другой человек есть отражение тебя, тогда ты бессознательно переживаешь за себя. Получается, что чужой смерти не бывает. Наша реакция на такие новости – это прижизненная безопасная репетиция того, что однажды обязательно случится. Читая сообщение о гибели ребенка в автокатастрофе, мы бессознательно представляем своих детей. Так работают эволюционно спасательные процессы.
#мысливслух
Почему сообщения в сводках новостей о разбившемся самолете или другой трагедии заставляют нас переживать за совершенно неизвестных нам людей? Эти вопросы поднимает в своей книге «Эгоистичный ген» английский этолог Ричард Докинз.
Он приходит к выводу, что существует эволюционно стабильная стратегия – переживать за себе подобного. Если любой другой человек есть отражение тебя, тогда ты бессознательно переживаешь за себя. Получается, что чужой смерти не бывает. Наша реакция на такие новости – это прижизненная безопасная репетиция того, что однажды обязательно случится. Читая сообщение о гибели ребенка в автокатастрофе, мы бессознательно представляем своих детей. Так работают эволюционно спасательные процессы.
#мысливслух
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Наше восприятие ритуальной сферы сформировано предыдущими поколениями: от обрядов до внешнего вида кладбищ. Сегодня мы также передаем определенное видение потомкам – формируем их представление об архитектурных формах, содержании некрополей, уходе за захоронениями.
Мы задаем вектор развития похоронной культуры, которая с течением времени меняется точно так же, как и другие области нашей жизни. Сегодня мы подготовили для вас видеоролик о работе цветочного салона на Николо-Архангельском кладбище.
Мы задаем вектор развития похоронной культуры, которая с течением времени меняется точно так же, как и другие области нашей жизни. Сегодня мы подготовили для вас видеоролик о работе цветочного салона на Николо-Архангельском кладбище.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видеоролик про исчезнувшие кладбища Москвы.
3 часть Лазаревское кладбище.
3 часть Лазаревское кладбище.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видеоролик про исчезнувшие кладбища Москвы.
4 часть Братское кладбище.
4 часть Братское кладбище.
👍1
Почему дистанционные услуги в ближайшем будущем не заменят традиционные ритуальные обряды?
В прошлом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции ГБУ «Ритуал» ввело дистанционные услуги: уборку могил, возложение цветов, закрытые видеотрансляции церемоний прощания и др. За это время стало очевидно, что в большинстве случаев они востребованы людьми, которые по разным причинам просто не имеют возможности лично присутствовать на кладбище. Но для подавляющего большинства людей традиционные ритуалы важнее удобства. И в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится. Самостоятельно убирая могилу близкого человека или возлагая цветы, мы тем самым отдаем дань уважения покойному.
Физические действия дают нам чувство сопричастности, а личное присутствие – это тоже способ почтить память. Дело не только и не столько в традициях, которые отличаются у разных народов и вероисповеданий. Такова человеческая психика – приложенные усилия добавляют ценность нашим поступкам в собственных глазах. Сделать звонок и заказать цветы на могилу к памятной дате не сложно. Совсем другое дело – выкроить время, выбрать цветы, самостоятельно взять хозинвентарь на кладбище, собрать и отнести в контейнер мусор, сказать несколько слов или просто помолчать у надгробия – этот опыт за нас никто не переживет.
В прошлом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции ГБУ «Ритуал» ввело дистанционные услуги: уборку могил, возложение цветов, закрытые видеотрансляции церемоний прощания и др. За это время стало очевидно, что в большинстве случаев они востребованы людьми, которые по разным причинам просто не имеют возможности лично присутствовать на кладбище. Но для подавляющего большинства людей традиционные ритуалы важнее удобства. И в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится. Самостоятельно убирая могилу близкого человека или возлагая цветы, мы тем самым отдаем дань уважения покойному.
Физические действия дают нам чувство сопричастности, а личное присутствие – это тоже способ почтить память. Дело не только и не столько в традициях, которые отличаются у разных народов и вероисповеданий. Такова человеческая психика – приложенные усилия добавляют ценность нашим поступкам в собственных глазах. Сделать звонок и заказать цветы на могилу к памятной дате не сложно. Совсем другое дело – выкроить время, выбрать цветы, самостоятельно взять хозинвентарь на кладбище, собрать и отнести в контейнер мусор, сказать несколько слов или просто помолчать у надгробия – этот опыт за нас никто не переживет.
Не только спрос рождает предложение, но и предложение спрос. Новшества в ритуальной сфере набирают обороты, в какой-то момент произошел сдвиг в осознанности, что люди начинают думать не только о том, как захоронить человека согласно традиционным правилам, но и как сделать это с пользой для природы. При этом находясь в самом тяжелом эмоциональном состоянии, которое может быть в жизни.
Сегодня существует множество вариантов экогробов и экоурн. Так, например, в США и Великобритании появилась возможность использовать вместо гроба изготовленный из биологически разлагаемого материала контейнер в форме яйца. Тело умершего помещают в него в позе эмбриона и закапываетют в землю, чтобы послужить питательной средой для выбранного заказчиком дерева. Можно даже вырастить дерево с вживленной в него ДНК умершего человека. Гробы и урны для праха научились изготавливать из переработанной бумаги, а для захоронения в море – из песка и желатина. Гроб может быть сплетен из банановых листьев, водяного гиацинта или овечьей шерсти.
В некоторых случаях люди используют одну биоразлагаемую урну для захоронения нескольких человек и сажают одно дерево. Так же существуют домашние цветочные вазы для праха.
Одним из самых редких и удивительных способов захоронения является биокостюм из грибов, которые нейтрализуют токсины и передают питательные вещества дереву или другому растению. С 2007 года на рынке ритуальных услуг присутствует ресомация. Это шотландское изобретение – процесс растворения тела в гидроксиде калия. Минимальное потребление энергии и отсутствие выбросов CO выгодно отличают ресомацию от кремации в глазах защитников природы. При этом тело разлагается в течение примерно трех часов, а не годами, как в случае захоронения гробом. Пока не приходится говорить о массовости подобных услуг, но свою нишу на рынке они уже заняли.
#ритуальныеновшества
Сегодня существует множество вариантов экогробов и экоурн. Так, например, в США и Великобритании появилась возможность использовать вместо гроба изготовленный из биологически разлагаемого материала контейнер в форме яйца. Тело умершего помещают в него в позе эмбриона и закапываетют в землю, чтобы послужить питательной средой для выбранного заказчиком дерева. Можно даже вырастить дерево с вживленной в него ДНК умершего человека. Гробы и урны для праха научились изготавливать из переработанной бумаги, а для захоронения в море – из песка и желатина. Гроб может быть сплетен из банановых листьев, водяного гиацинта или овечьей шерсти.
В некоторых случаях люди используют одну биоразлагаемую урну для захоронения нескольких человек и сажают одно дерево. Так же существуют домашние цветочные вазы для праха.
Одним из самых редких и удивительных способов захоронения является биокостюм из грибов, которые нейтрализуют токсины и передают питательные вещества дереву или другому растению. С 2007 года на рынке ритуальных услуг присутствует ресомация. Это шотландское изобретение – процесс растворения тела в гидроксиде калия. Минимальное потребление энергии и отсутствие выбросов CO выгодно отличают ресомацию от кремации в глазах защитников природы. При этом тело разлагается в течение примерно трех часов, а не годами, как в случае захоронения гробом. Пока не приходится говорить о массовости подобных услуг, но свою нишу на рынке они уже заняли.
#ритуальныеновшества
Как думаете, что заставляет человека совершать привычные действия, если он знает, что все равно умрет?
Ведь каждый человек смертен – так было до нас, так есть сейчас и так будет после нас. Это нормальное природное явление – естественная часть жизни. Каждый день содержит в себе одновременно шаг вперед и шаг назад. С одной стороны, мы развиваемся, достигаем каких-то целей, а с другой стороны, мы приближаемся на день ближе к смерти.
Ведь каждый человек смертен – так было до нас, так есть сейчас и так будет после нас. Это нормальное природное явление – естественная часть жизни. Каждый день содержит в себе одновременно шаг вперед и шаг назад. С одной стороны, мы развиваемся, достигаем каких-то целей, а с другой стороны, мы приближаемся на день ближе к смерти.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видеоролик о строительных работах 2-й очереди на Ястребковском кладбище
Кладбище - это жизнь
Желаем мы того или нет, но кладбище занимает одно из важнейших мест в нашей жизни. Человек может никогда не побывать в театре, в музее, в библиотеке, в парке культуры, в ресторане, но он непременно и не один раз посетит кладбище. Причем, неверно думать, что кладбище составляет единственно мрачную, горестную сторону человеческого существования. Чаще всего, в печали бывают на кладбище лишь в день похорон кого-то из близких. А уже затем посещение дорогой могилы вызывает скорее чувство умиротворения, умиления. Не случайно поэт Михаил Александрович Дмитриев писал: «…народ наш московский любит к усопшим родным, как к живым, приходить на свиданье». Вот именно — как к живым! Как же такое свидание может быть горестным? Вопреки представлению о кладбище, как о царстве скорби, скорбь занимает в повседневной его жизни долю ничуть не большую, чем она составляет вне кладбищенской ограды. Нужно заметить, что само наше слово «кладбище» не вполне соответствует греческому некрополю. А может быть и вовсе не соответствует. Хотя употребляются они обычно теперь как синонимы. Некрополь означает — город мертвых. Кладбище же, как нетрудно догадаться, происходит от слова клад, полученное в свою очередь от глагола класть, то есть, по формулировке Даля, полагать лежмя. Клад — слово очень древнее, очевидно, старославянского происхождения, означающее нечто ценное, зарытое в землю. Причем зарытое до поры. Никто же не станет укрывать ценности таким образом, чтобы потом не было возможности их обрести.
Согласно христианскому вероучению, все верные чада церкви, все спасшиеся, получают в награду за свою верность жизнь вечную. У того же Даля есть выражение — смерть упокоевает. Верный христианин не исчезает бесследно, но лишь упокоевается на время. Поэтому он — верный — должен, как ценный клад, быть положен лежмя в специально отведенном месте ожидать весны воскресения. Если же человек прожил неправедно и умер «дурной смертью» — не покаявшись, не приобщившись святых таинств, — вместе с верными его не хоронили. Его закапывали где-нибудь отдельно или просто выбрасывали в поле. Вот почему значение слова «кладбище» изначально ни в коем случае не могло соответствовать языческому греческому понятию «город мертвых». У русского Бога нет мертвых. И православный народ верно знает — сущим во гробех живот даруется. Вот почему, не будучи, по сути, «некрополем», русское кладбище и прежде не почиталось скорбным уделом, Аидовой областью мглистой, и до сих пор сохранило свой живой, попирающий смерть, характер.
Выдержка из книги Ю.В. Рябинина «Под покровом вечной тишины».
Желаем мы того или нет, но кладбище занимает одно из важнейших мест в нашей жизни. Человек может никогда не побывать в театре, в музее, в библиотеке, в парке культуры, в ресторане, но он непременно и не один раз посетит кладбище. Причем, неверно думать, что кладбище составляет единственно мрачную, горестную сторону человеческого существования. Чаще всего, в печали бывают на кладбище лишь в день похорон кого-то из близких. А уже затем посещение дорогой могилы вызывает скорее чувство умиротворения, умиления. Не случайно поэт Михаил Александрович Дмитриев писал: «…народ наш московский любит к усопшим родным, как к живым, приходить на свиданье». Вот именно — как к живым! Как же такое свидание может быть горестным? Вопреки представлению о кладбище, как о царстве скорби, скорбь занимает в повседневной его жизни долю ничуть не большую, чем она составляет вне кладбищенской ограды. Нужно заметить, что само наше слово «кладбище» не вполне соответствует греческому некрополю. А может быть и вовсе не соответствует. Хотя употребляются они обычно теперь как синонимы. Некрополь означает — город мертвых. Кладбище же, как нетрудно догадаться, происходит от слова клад, полученное в свою очередь от глагола класть, то есть, по формулировке Даля, полагать лежмя. Клад — слово очень древнее, очевидно, старославянского происхождения, означающее нечто ценное, зарытое в землю. Причем зарытое до поры. Никто же не станет укрывать ценности таким образом, чтобы потом не было возможности их обрести.
Согласно христианскому вероучению, все верные чада церкви, все спасшиеся, получают в награду за свою верность жизнь вечную. У того же Даля есть выражение — смерть упокоевает. Верный христианин не исчезает бесследно, но лишь упокоевается на время. Поэтому он — верный — должен, как ценный клад, быть положен лежмя в специально отведенном месте ожидать весны воскресения. Если же человек прожил неправедно и умер «дурной смертью» — не покаявшись, не приобщившись святых таинств, — вместе с верными его не хоронили. Его закапывали где-нибудь отдельно или просто выбрасывали в поле. Вот почему значение слова «кладбище» изначально ни в коем случае не могло соответствовать языческому греческому понятию «город мертвых». У русского Бога нет мертвых. И православный народ верно знает — сущим во гробех живот даруется. Вот почему, не будучи, по сути, «некрополем», русское кладбище и прежде не почиталось скорбным уделом, Аидовой областью мглистой, и до сих пор сохранило свой живой, попирающий смерть, характер.
Выдержка из книги Ю.В. Рябинина «Под покровом вечной тишины».
👍1
Стремление сохранить жизнь – неестественное чувство всего живого.
Именно убедительность такой позиции заставила Шекспира – правда, устами Фальстафа – сказать следующее:
«Еще срок не пришел, и у меня нет охоты отдавать жизнь раньше времени. К чему мне торопиться, если бог не требует её у меня? Пусть так, но честь меня окрыляет. А что, если честь меня обескрылит, когда я пойду в бой? Что тогда? Может честь приставить мне ногу? Нет. Или руку? Нет. Или унять боль от раны? Нет. Значит, честь – плохой хирург? Безусловно. Что же такое честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух. Хорош барыш! Кто обладает честью? Тот, кто умер в среду. А он чувствует её? Нет. Слышит её? Нет. Значит, честь неощутима? Для мертвого – неощутима. Но, быть может, она будет жить среди живых? Нет. Почему? Злословие не допустит этого. Вот почему честь мне не нужна. Она не более как щит с гербом, который несут за гробом. Вот и весь сказ».
«Одна из ступеней в сфере биологии как проблема "размножение-смерть". Непрерывность процесса размножения коллективной жизни антитетически связана с принципиальной прерванностью индивидуального бытия. Однако до того, как это противоречие не сделалось объектом самосознания, оно "как бы не существует". Неосознанное противоречие не делается фактором поведения. В сфере культуры первым этапом борьбы с "концами" является циклическая модель, господствующая в мифологическом и фольклорном сознании.
После того как мифологическое мышление сменилось историческим, понятие конца приобрело доминирующий характер. Необходимость примирить не дискретность бытия с дискретностью сознания и бессмертие природы со смертностью человека породила идею цикличности, а переход к линейному сознанию стимулировал образ смерти-возрождения. Отсюда вытекало мифологическое представление о возрождении состарившегося отца в молодом сыне и идея смерти-рождения. Здесь, однако, протекал и существенный раздел. В циклической системе смерть-возрождение переживало одно и то же вечное божество. Линейный повтор создавал образ другого (как правило, сына), в образе которого умерший как бы возрождался в своем подобии.
Получается, что нашей смерти не существует, так как мы длим «себя» через наших детей. Передаем свои образы».
Ю.М. Лотман
Именно убедительность такой позиции заставила Шекспира – правда, устами Фальстафа – сказать следующее:
«Еще срок не пришел, и у меня нет охоты отдавать жизнь раньше времени. К чему мне торопиться, если бог не требует её у меня? Пусть так, но честь меня окрыляет. А что, если честь меня обескрылит, когда я пойду в бой? Что тогда? Может честь приставить мне ногу? Нет. Или руку? Нет. Или унять боль от раны? Нет. Значит, честь – плохой хирург? Безусловно. Что же такое честь? Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух. Хорош барыш! Кто обладает честью? Тот, кто умер в среду. А он чувствует её? Нет. Слышит её? Нет. Значит, честь неощутима? Для мертвого – неощутима. Но, быть может, она будет жить среди живых? Нет. Почему? Злословие не допустит этого. Вот почему честь мне не нужна. Она не более как щит с гербом, который несут за гробом. Вот и весь сказ».
«Одна из ступеней в сфере биологии как проблема "размножение-смерть". Непрерывность процесса размножения коллективной жизни антитетически связана с принципиальной прерванностью индивидуального бытия. Однако до того, как это противоречие не сделалось объектом самосознания, оно "как бы не существует". Неосознанное противоречие не делается фактором поведения. В сфере культуры первым этапом борьбы с "концами" является циклическая модель, господствующая в мифологическом и фольклорном сознании.
После того как мифологическое мышление сменилось историческим, понятие конца приобрело доминирующий характер. Необходимость примирить не дискретность бытия с дискретностью сознания и бессмертие природы со смертностью человека породила идею цикличности, а переход к линейному сознанию стимулировал образ смерти-возрождения. Отсюда вытекало мифологическое представление о возрождении состарившегося отца в молодом сыне и идея смерти-рождения. Здесь, однако, протекал и существенный раздел. В циклической системе смерть-возрождение переживало одно и то же вечное божество. Линейный повтор создавал образ другого (как правило, сына), в образе которого умерший как бы возрождался в своем подобии.
Получается, что нашей смерти не существует, так как мы длим «себя» через наших детей. Передаем свои образы».
Ю.М. Лотман
👍2