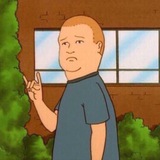добрый день, дорогие подпищеки.
так вышло, что на днях мне предложили поучаствовать / прийти выступить в университете "зинзивер", что мне:
а) очень польстило
б) пришлось эту затею отложить, ввиду целой прорвы бытовых неурядиц, которые я потихоньку решаю, чтобы ближе к весне стать счастливым, свободным человеком.
так что, может быть, весной буду вас звать посмотреть на мое очень красивое личико. нюдсы в личку, если что, можно загодя присылать. но, предупреждаю: я без понятия, что с ними делать!
так вот!
в любом случае, прошу вас жоска обратить внимание на такой способ проведения свободного времени (если вы москвабадец), потому что:
а) делают проект люди хорошие, открытые и умные, пусть и со склонностью писать манифесты. за сашей (которая называется в кредитсах страшным словом "завуч") очень давно слежу и радуюсь.
б) там частенько появляются ебать что за интересные спикеры по типу Юрия Сапрыкина, Наи Гусевой и других
в) сам "зинзивер" – такое около-культовое место для всех людей в свитерах, посему нужно это исправлять и делать его просто культовым местом!
если перейдете ознакомитесь подпишетесь придете лично – цены вам не будет (сейчас ее тоже, впрочем, нет)
так вышло, что на днях мне предложили поучаствовать / прийти выступить в университете "зинзивер", что мне:
а) очень польстило
б) пришлось эту затею отложить, ввиду целой прорвы бытовых неурядиц, которые я потихоньку решаю, чтобы ближе к весне стать счастливым, свободным человеком.
так что, может быть, весной буду вас звать посмотреть на мое очень красивое личико. нюдсы в личку, если что, можно загодя присылать. но, предупреждаю: я без понятия, что с ними делать!
так вот!
в любом случае, прошу вас жоска обратить внимание на такой способ проведения свободного времени (если вы москвабадец), потому что:
а) делают проект люди хорошие, открытые и умные, пусть и со склонностью писать манифесты. за сашей (которая называется в кредитсах страшным словом "завуч") очень давно слежу и радуюсь.
б) там частенько появляются ебать что за интересные спикеры по типу Юрия Сапрыкина, Наи Гусевой и других
в) сам "зинзивер" – такое около-культовое место для всех людей в свитерах, посему нужно это исправлять и делать его просто культовым местом!
если перейдете ознакомитесь подпишетесь придете лично – цены вам не будет (сейчас ее тоже, впрочем, нет)
Telegram
инди-школа «8 с половиной»
edutainment-стартап для всех, кто ищет новые смыслы
Коннект: @ksaff
Коннект: @ksaff
Подумалось, что современный (пост) хоррор – это, кажется, самый комфортный и безопасный жанр для таких, как я – белых цисгендерных мужчин с более-менее прогрессивными / либеральными взглядами. Мало того, что современный хоррор (объективно) – зачастую, совершенно не страшный, так он еще и исследует темы, в рамках которых мне, белому посону-гетеро, находиться невероятно удобно и спокойно.
Сами посудите:
Джордан Пил рассказывает истории про то, как чернокожих угнетали, как латентный / корпоративный расизм по-прежнему существует, о поиске неграми собственной идентичности и прочих локальных проблемах определенной культуры / комьюнити. В рамках такого рода проблематики белому прогрессивному мужчине, алчущему не потерять доступ к начитанным женским телам, нужно просто немного посокрушаться, что-то промямлить а-ля: "блин, малая, расизм – ваще не круто" – и жить дальше.
Посмотрев "Солнцестояние" – кино довольно красивое и почти такое же изощренное, как "Кострома" Сурикова – мне остается только зевнуть, подмигнуть и улыбнуться, сказав: да ваще поебать мне на этих шведов бля)))
Смотря фильмы Дюкорно ("Титан", "Сырое"), недавнюю "Субстанцию" и многие другие хорроры, исследующие проблему "быть женщиной в этом сложном современном мире", – испытываю очень противоречивые ощущения. Это могут быть очень хорошие фильмы, они могут мне нравиться, но, ввиду того, что исследуют опыт, с которым, по объективным причинам, отождествлять себя не могу – полноценно проникнуться все равно не получится. Нет никакого смысла себя обманывать и из солидарности с женщинами начинать менструировать кетчупом.
Перечислять можно долго, но, полагаю, суть вы уловили – тематика современного (пост) хоррора позволяет мне находиться на комфортной дистанции, полноценно не погружаясь, а, скорее, наоборот, остраняться, проваливаясь в замутненные концептуальные размышлизмы об угнетенных группах, капитализме и противоречиях деколонизации.
При этом маскулинность практически не деконструируется. В традиционно-левой киносреде само собой разумеющимся считается, что патриархат – говно, женская эмансипация – круто, а об "общих местах" говорить – значит, быть пошлым, вторичным и неинтересным. Ввиду чего, страхи типичного белого мужика, пять дней в неделю шагающего в офис, подвергаются игнору, ввиду либо отсутствия художественной целесообразности, либо, что более вероятно, – отстуствия смелости начать ковырять гнойнички и болячки мужского существования. Так и на себя можно выйти.
Показательно, что один из самых страшных и некомфортных фильмов о мужских загонах и страхах, в котором есть безумно тяжелая сцена с изнасилованием и тотальным мужским бессилием, снял гей – речь про "Под покровом ночи" Тома Форда. Хотя это даже не хоррор!
Гомосексуальность, будучи, в сути своей, обратной стороной прямолинейно-тупорылой маскулинности, позволяет рассматривать "мужской" опыт с позиций, которые едва ли не любому гетеро будет крайне сложно спокойно воспринять. Поскобли монеткой любого открытого и прогрессивного пацана – и увидишь звериный оскал дворовых понятий, своеобразно понятых "рыцарских" конвенций и выгребную яму с немотивированным насилием. Процентное соотношение "прогрессивности" и "пацанскости" у каждого свое, но сам факт существования "пацанскости" уже уталкивает под кровать небольшую коробку с ужасами, которые-не-дай-Бог-произойдут.
Том Форд в "Под покровом ночи" ковыряет маскулинный ужас перед бессилием, помимо прочего, впихивая очевидно слабого героя в декорации чуть ли не итальянского вестерна, тем самым только подчеркивая его нелепость. Не говоря уже о сцене на дороге. Где малолетние бандиты на пустующей трассе останавливают машину, в которой ехал герой вместе с женой и дочкой, а после на его глазах впихивают женщин в машину, увозят и насилуют.
Такое кино уже не позволяет спрятаться за концептуальными ширмами и философией "банальности зла" – кошмар материализуется на глазах, от него нельзя спрятаться. Только выключить фильм, спуститься в комменты и написать: бля ну и кал! не удивлен что такую фильму снял ПИДАР!
Вот такой хоррор нужен Готэму.
Сами посудите:
Джордан Пил рассказывает истории про то, как чернокожих угнетали, как латентный / корпоративный расизм по-прежнему существует, о поиске неграми собственной идентичности и прочих локальных проблемах определенной культуры / комьюнити. В рамках такого рода проблематики белому прогрессивному мужчине, алчущему не потерять доступ к начитанным женским телам, нужно просто немного посокрушаться, что-то промямлить а-ля: "блин, малая, расизм – ваще не круто" – и жить дальше.
Посмотрев "Солнцестояние" – кино довольно красивое и почти такое же изощренное, как "Кострома" Сурикова – мне остается только зевнуть, подмигнуть и улыбнуться, сказав: да ваще поебать мне на этих шведов бля)))
Смотря фильмы Дюкорно ("Титан", "Сырое"), недавнюю "Субстанцию" и многие другие хорроры, исследующие проблему "быть женщиной в этом сложном современном мире", – испытываю очень противоречивые ощущения. Это могут быть очень хорошие фильмы, они могут мне нравиться, но, ввиду того, что исследуют опыт, с которым, по объективным причинам, отождествлять себя не могу – полноценно проникнуться все равно не получится. Нет никакого смысла себя обманывать и из солидарности с женщинами начинать менструировать кетчупом.
Перечислять можно долго, но, полагаю, суть вы уловили – тематика современного (пост) хоррора позволяет мне находиться на комфортной дистанции, полноценно не погружаясь, а, скорее, наоборот, остраняться, проваливаясь в замутненные концептуальные размышлизмы об угнетенных группах, капитализме и противоречиях деколонизации.
При этом маскулинность практически не деконструируется. В традиционно-левой киносреде само собой разумеющимся считается, что патриархат – говно, женская эмансипация – круто, а об "общих местах" говорить – значит, быть пошлым, вторичным и неинтересным. Ввиду чего, страхи типичного белого мужика, пять дней в неделю шагающего в офис, подвергаются игнору, ввиду либо отсутствия художественной целесообразности, либо, что более вероятно, – отстуствия смелости начать ковырять гнойнички и болячки мужского существования. Так и на себя можно выйти.
Показательно, что один из самых страшных и некомфортных фильмов о мужских загонах и страхах, в котором есть безумно тяжелая сцена с изнасилованием и тотальным мужским бессилием, снял гей – речь про "Под покровом ночи" Тома Форда. Хотя это даже не хоррор!
Гомосексуальность, будучи, в сути своей, обратной стороной прямолинейно-тупорылой маскулинности, позволяет рассматривать "мужской" опыт с позиций, которые едва ли не любому гетеро будет крайне сложно спокойно воспринять. Поскобли монеткой любого открытого и прогрессивного пацана – и увидишь звериный оскал дворовых понятий, своеобразно понятых "рыцарских" конвенций и выгребную яму с немотивированным насилием. Процентное соотношение "прогрессивности" и "пацанскости" у каждого свое, но сам факт существования "пацанскости" уже уталкивает под кровать небольшую коробку с ужасами, которые-не-дай-Бог-произойдут.
Том Форд в "Под покровом ночи" ковыряет маскулинный ужас перед бессилием, помимо прочего, впихивая очевидно слабого героя в декорации чуть ли не итальянского вестерна, тем самым только подчеркивая его нелепость. Не говоря уже о сцене на дороге. Где малолетние бандиты на пустующей трассе останавливают машину, в которой ехал герой вместе с женой и дочкой, а после на его глазах впихивают женщин в машину, увозят и насилуют.
Такое кино уже не позволяет спрятаться за концептуальными ширмами и философией "банальности зла" – кошмар материализуется на глазах, от него нельзя спрятаться. Только выключить фильм, спуститься в комменты и написать: бля ну и кал! не удивлен что такую фильму снял ПИДАР!
Вот такой хоррор нужен Готэму.
Как бы это кого-то ни удивляло, но в российском кино есть (очень) сравнительно неплохой хоррор с заходом на пресловутую тему "болючей маскулинности" – "Побочный эффект".
По этому поводу реанимирую свою старенькую текстулю-трэпулю про него.
Побочный эффект (2020) реж. Алексей Казаков
В детстве до меня сравнительно регулярно доебывались «старшие» – родственники, пацаны со двора, добродушные алкаши на лавочке и прочие – с советами, как мне стать сильнее и научиться хорошо драться. На вопрос «зачем?» звучал незамедлительный ответ «чтобы иметь возможность защитить свою женщину от нападок уличных хулиганов» или «вот нападут на тебя и твою матушку бандиты, а ты как ее своими шахматами защитишь». За свою жизнь я успел позаниматься различными видами боевых единоборств, но к пониманию, каким образом это убережет меня от возможного беспредела – не пришел.
Но такие вопросы/советы очень хорошо отражают реальность огромного количества мужчин по всему миру с их противоречивым и нереализуемым стремлением к тотальному контролю окружающей действительности. Контроль этот зыбок и иллюзорен, обреченный на разрушение, раскрытие обманчивой структуры своего существования. Подспудное знание иллюзорности и отсутствия какого-либо контроля и понимания окружающего, но отчаянное желание имитации создает беспрецедентных масштабов внутренний ужас от незащищенности, дрожь от возможности вскрытия слабости и запуганности.
«Побочный эффект», который снял Алексей Казаков, писавший до этого сценарии для «Горько», «Супербобровы», «Самый лучший день» и других противоречивых тайтлов, пытается исследовать закрома маскулинности, которая столкнулась с раскрытием. Ужас, страх и невозможность соответствия морочному образу, что выстраивался кирпичами из говна и цемента, холодного пота.
Главный герой по имени Андрей сталкивается с ситуацией, когда, придя домой вместе со своей беременной женой, натыкается на бандитов. На глазах мужа они насилуют жену, а тот ничего не смог с этим сделать. У жены случился выкидыш, она впала в депрессию, а в отношениях случился разлад. Муж по совету коллеги идет к некой «колдунье», которая предлагает ему выход – он подмешивает жене в еду некие «грибы», а та забывает о произошедшем. Условие одно: они должны пожить в ее квартире, пока она в отъезде.
Практически сразу напрашиваются параллели с «Под покровом ночи» – тем более, что сходств действительно многовато. В обоих фильмах происходит насилие на глазах мужчины, в обоих фильмах они пытаются это переработать, а сами фильмы занимаются блужданием по тропинкам слабостей персонажей, невзначай поддевая, а иногда и откровенно угарают над героями, оказавшимся в такой разоблачающей их ситуации. Но подходы у фильмов совершенно разные: если Том Форд с высоты своего гомосексуального превосходства позволяет себе находиться «над» и как бы устраниться от истории, то в «Побочном эффекте» вот эта необходимость перебороть зло, победить всех ублюдков, преодолеть, закопать, отомстить, доказать прям чувствуется – и это местами умиляет, а местами расстраивает, ибо ру-хоррор пока не научился взаимодействовать со слабостями, телесностью и играться с трансгрессией.
В этой неготовности показаться по-настоящему слабым и уязвимым – главная проблема «Побочного эффекта». Взяв за основу ужасную и гнусную историю преодоления ужаса от бессилия, непонимания от столкновения с беспределом социальной энтропии, помноженной на замкнутость маскулинности с ее лживыми убеждениями, Алексей Казаков к середине начинает тормозить и бояться. Топтаться на месте, а ближе к концу и вовсе сворачивая на довольно заурядные и заунывные рельсы «мужского преодоления» зла, разворачивая в историю «мести ведьмы», без напрашивающихся выводов и финальных свинцовых ударений.
По этому поводу реанимирую свою старенькую текстулю-трэпулю про него.
Побочный эффект (2020) реж. Алексей Казаков
В детстве до меня сравнительно регулярно доебывались «старшие» – родственники, пацаны со двора, добродушные алкаши на лавочке и прочие – с советами, как мне стать сильнее и научиться хорошо драться. На вопрос «зачем?» звучал незамедлительный ответ «чтобы иметь возможность защитить свою женщину от нападок уличных хулиганов» или «вот нападут на тебя и твою матушку бандиты, а ты как ее своими шахматами защитишь». За свою жизнь я успел позаниматься различными видами боевых единоборств, но к пониманию, каким образом это убережет меня от возможного беспредела – не пришел.
Но такие вопросы/советы очень хорошо отражают реальность огромного количества мужчин по всему миру с их противоречивым и нереализуемым стремлением к тотальному контролю окружающей действительности. Контроль этот зыбок и иллюзорен, обреченный на разрушение, раскрытие обманчивой структуры своего существования. Подспудное знание иллюзорности и отсутствия какого-либо контроля и понимания окружающего, но отчаянное желание имитации создает беспрецедентных масштабов внутренний ужас от незащищенности, дрожь от возможности вскрытия слабости и запуганности.
«Побочный эффект», который снял Алексей Казаков, писавший до этого сценарии для «Горько», «Супербобровы», «Самый лучший день» и других противоречивых тайтлов, пытается исследовать закрома маскулинности, которая столкнулась с раскрытием. Ужас, страх и невозможность соответствия морочному образу, что выстраивался кирпичами из говна и цемента, холодного пота.
Главный герой по имени Андрей сталкивается с ситуацией, когда, придя домой вместе со своей беременной женой, натыкается на бандитов. На глазах мужа они насилуют жену, а тот ничего не смог с этим сделать. У жены случился выкидыш, она впала в депрессию, а в отношениях случился разлад. Муж по совету коллеги идет к некой «колдунье», которая предлагает ему выход – он подмешивает жене в еду некие «грибы», а та забывает о произошедшем. Условие одно: они должны пожить в ее квартире, пока она в отъезде.
Практически сразу напрашиваются параллели с «Под покровом ночи» – тем более, что сходств действительно многовато. В обоих фильмах происходит насилие на глазах мужчины, в обоих фильмах они пытаются это переработать, а сами фильмы занимаются блужданием по тропинкам слабостей персонажей, невзначай поддевая, а иногда и откровенно угарают над героями, оказавшимся в такой разоблачающей их ситуации. Но подходы у фильмов совершенно разные: если Том Форд с высоты своего гомосексуального превосходства позволяет себе находиться «над» и как бы устраниться от истории, то в «Побочном эффекте» вот эта необходимость перебороть зло, победить всех ублюдков, преодолеть, закопать, отомстить, доказать прям чувствуется – и это местами умиляет, а местами расстраивает, ибо ру-хоррор пока не научился взаимодействовать со слабостями, телесностью и играться с трансгрессией.
В этой неготовности показаться по-настоящему слабым и уязвимым – главная проблема «Побочного эффекта». Взяв за основу ужасную и гнусную историю преодоления ужаса от бессилия, непонимания от столкновения с беспределом социальной энтропии, помноженной на замкнутость маскулинности с ее лживыми убеждениями, Алексей Казаков к середине начинает тормозить и бояться. Топтаться на месте, а ближе к концу и вовсе сворачивая на довольно заурядные и заунывные рельсы «мужского преодоления» зла, разворачивая в историю «мести ведьмы», без напрашивающихся выводов и финальных свинцовых ударений.
Еще о паре хайповых фильмов, о которых нужно написать, чтобы словить ЖЕСТКИЙ ХАЙП, но какие-то глобальные хайповые мысли в голову не флексят.
Всем плотный дэб!
Субстанция
При просмотре понял, что этот фильм одинаково легко любить и легко ненавидеть – настолько он противоречивый и этими противоречиями подпитывается. Очень поверхностное и простое кино, которое, однако, крайне изъебисто сделано, ввиду чего по-настоящему фактурно подкопаться – по-крайней мере, смыслово – становится задачей очень сложной, если учитывать все существующие ироничные и не очень сюжетные условности.
При этом с точки зрения формы боди-хоррора, Субстанция, на мой вкус, не работает совершенно, – это слишком прилизанное, стерильное кино. Но как этакий мета-комментарий, который на протяжении двухчасового хрона раз пять меняет тональность – от слащавой серьезности, до сардонической "не все поймут)))" смотрится, по крайней мере, занимательно.
Претенденты
Как сказал великий автор не менее великого телеграм-канала дикое: «Претенденты» - боевик без оружия и взрывов. Фильм Луки Гуаданьино смотрится именно так. Очень динамичное, красивое, многослойное, со скачущей темпоральностью и НУ НИ РАЗУ не сексуальное кино, как бы оно не пыталось таковым быть (ощущение, словно смотришь, как девятиклассники впервые понимают как прикольно сосаться).
Странно, но несколько раз во время просмотра ловил себя на мысли, что "Претенденты" многим напоминают "Светскую жизнь" Вуди Аллена. Не в плане формы, но в плане содержания – оба фильма одинаково смакуют фантомную боль от нереализованной "другой" жизни, где могло быть счастье, похожим образом демонстрируют ужас быть человеком, ежедневно совершающего фатальные и бесповоротные выборы, в одинаковой манере меланхоличнной беззаботности принимают генеральную бессмысленность предприятия под названием жизнь.
Хорошее кино, мне понравилось
Джокович – легенда. Синнер – скотина. Алькараз – талант.
Всем плотный дэб!
Субстанция
При просмотре понял, что этот фильм одинаково легко любить и легко ненавидеть – настолько он противоречивый и этими противоречиями подпитывается. Очень поверхностное и простое кино, которое, однако, крайне изъебисто сделано, ввиду чего по-настоящему фактурно подкопаться – по-крайней мере, смыслово – становится задачей очень сложной, если учитывать все существующие ироничные и не очень сюжетные условности.
При этом с точки зрения формы боди-хоррора, Субстанция, на мой вкус, не работает совершенно, – это слишком прилизанное, стерильное кино. Но как этакий мета-комментарий, который на протяжении двухчасового хрона раз пять меняет тональность – от слащавой серьезности, до сардонической "не все поймут)))" смотрится, по крайней мере, занимательно.
Претенденты
Как сказал великий автор не менее великого телеграм-канала дикое: «Претенденты» - боевик без оружия и взрывов. Фильм Луки Гуаданьино смотрится именно так. Очень динамичное, красивое, многослойное, со скачущей темпоральностью и НУ НИ РАЗУ не сексуальное кино, как бы оно не пыталось таковым быть (ощущение, словно смотришь, как девятиклассники впервые понимают как прикольно сосаться).
Странно, но несколько раз во время просмотра ловил себя на мысли, что "Претенденты" многим напоминают "Светскую жизнь" Вуди Аллена. Не в плане формы, но в плане содержания – оба фильма одинаково смакуют фантомную боль от нереализованной "другой" жизни, где могло быть счастье, похожим образом демонстрируют ужас быть человеком, ежедневно совершающего фатальные и бесповоротные выборы, в одинаковой манере меланхоличнной беззаботности принимают генеральную бессмысленность предприятия под названием жизнь.
Хорошее кино, мне понравилось
Джокович – легенда. Синнер – скотина. Алькараз – талант.
Сегодня в ограниченный прокат выходит "Снег в моем дворе" Бакура Бакурадзе – культового и знакового в узких кругах режиссера.
Не хочу и не буду записывать себя в поклонники его таланта, хотя, безусловно, не замечать, что этот самый "талант" присутствует в промышленных объемах – неправильно и глупо.
Но в персоне Бакура (и некоторых других глубоко авторских режиссеров) меня всегда интересовал вопрос (мб риторический): для кого он снимает?
Вопрос не в том, что фильмы якобы "сложные", "медленные" или нарушающие (не)гласные конвенции популярного кино, и мол НАРМАЛЬНЫЕ люди смотреть такое не будут. Вполне смотрят такое.
А в том, что их натурально знает очень мало людей и, что самое для меня странное, никто из создателей не стремится к тому, чтобы их посмотрело больше (никаких внятных действий для этого я не заметил, поправьте, если не прав). Ограниченный прокат, в интернете фильмы Бакурадзе проще найти на пиратских сайтах, чем посмотреть легально, адекватного промо нет (кроме постов от кинокритиков и блогеров, но это харчок в море, давайте честно).
Ну вот просто едва ли не нуль действий навстречу зрителю. Фильмы со старта обречены на не-успех.
Из этого и вытекает мое любопытство: в этом есть какой-то тайный прикол, который я не могу понять? Или почему так делается?
Буду рад мнениям / объяснениям
Не хочу и не буду записывать себя в поклонники его таланта, хотя, безусловно, не замечать, что этот самый "талант" присутствует в промышленных объемах – неправильно и глупо.
Но в персоне Бакура (и некоторых других глубоко авторских режиссеров) меня всегда интересовал вопрос (мб риторический): для кого он снимает?
Вопрос не в том, что фильмы якобы "сложные", "медленные" или нарушающие (не)гласные конвенции популярного кино, и мол НАРМАЛЬНЫЕ люди смотреть такое не будут. Вполне смотрят такое.
А в том, что их натурально знает очень мало людей и, что самое для меня странное, никто из создателей не стремится к тому, чтобы их посмотрело больше (никаких внятных действий для этого я не заметил, поправьте, если не прав). Ограниченный прокат, в интернете фильмы Бакурадзе проще найти на пиратских сайтах, чем посмотреть легально, адекватного промо нет (кроме постов от кинокритиков и блогеров, но это харчок в море, давайте честно).
Ну вот просто едва ли не нуль действий навстречу зрителю. Фильмы со старта обречены на не-успех.
Из этого и вытекает мое любопытство: в этом есть какой-то тайный прикол, который я не могу понять? Или почему так делается?
Буду рад мнениям / объяснениям
На обломках американской мечты – Hoop Dreams
часть 1
Последнее время мне очень нравится слово «наверняка». В отличие от слова «наверное» или «возможно», слово «наверняка» обладает некоторым жизнеутверждающим/игривым зарядом маленького ребенка, что азартно предполагает, как бы фамильярно заигрывая с хмурой судьбинушкой: «наверняка это случится!», «наверняка он уже обо всем знает!». Слово «наверняка» сразу же превращает любое предположение в незамысловатую игру с мирозданием. Как серьезный напиджаченный мужичок с кейсом в руке может шагать по половинящей дорогу зебре, не наступая на черные полосы, заигрывая с «окружением», так и человек, говорящий «наверняка!» заставляет ангелочков перманентно над ним зависающих чуть-чуть хихикнуть да покачать головой.
Еще интересно, что слово «наверняка» очень плохо стыкуется с негативными предположениями. «Наверняка он мне что-то крутое подарит!» – звучит органично. «Наверняка ты это смотрел/знаешь!» – тоже.
Но вот «наверняка у него ничего не получится…» – отнюдь.
«Наверняка» – это детское слово. А «ничего не получается» только у взрослых.
Посему наблюдать за тем, как юные ребяты, еще не познавшие болезненные столкновения с реальностью, которую, увы, не получается взломать одними лишь мечтами и «дисциплиной», отчаянно мечтают и стремятся, – то, чем мне очень нравится заниматься. Есть в этом наблюдении что-то противоречиво садисткое (ты знаешь, что у него с высокой вероятностью ничего не получится) и дарующее надежду на существование сказки (а вдруг!).
Мой любимый канал на ютубе – это «прорваться в нба» от юного пацана по имени Тимур из города Светогорск, который в названии почти каждого видео совершает орфографические ошибки, но маниакально стремится из своих ебеней телепортироваться в глянцевый мир лучшей лиги мира с миллионными контрактами и тысячами зрителей на арене. Там он в своих кустарных условиях пробует жить «как Стефен Карри», в запущенных залах с проваливающимися половицами бросает в кольцо, зимой отрабатывает технику в батином гараже и совершает множество других абсурдных манипуляций в погоне за мороком мечты.
В конце концов, если у него получится (во что я искренне верю!), то я смогу сделать монтажное кино-ответ документальному фильму «Hoop Dreams» Стива Джеймса, который совершил ровно противоположное – показал, как НЕ получилось.
Вообще, стоит этот абзац выделить для констатации очевидного факта: «Hoop Dreams» / «Баскетбольные мечты» – это лучшее кино про баскетбол из всех ныне существующих.
А этот абзац стоит выделить для констатации второго очевидного факта: лучшие фильмы про баскетбол – это фильмы, где у героев НЕ получается. «Тренер Картер», «Баскетбольные мечты», «Неограненные драгоценности» (отчасти).
В этом абзаце автор расскажет про что «Баскетбольные мечты». Есть два героя Артур и Уильям, – они оба хотят стать баскетболистами. Одного берут в престижную школу Ст. Джозеф, потому что тот очень перспективный и сильный. Второго не берут, потому что «ему чего-то не хватает». И их жизнь идет диаметрально разными маршрутами. Один потихоньку залазит на «олимп», второй изнывает от нищеты после того, как его отца посадили за торговлю наркотой. Один получает приглашения в престижные вузы со спортивной стипендией. Второй едва не срывается на блуждания по проторенным батей преступным маршрутам.
часть 1
Последнее время мне очень нравится слово «наверняка». В отличие от слова «наверное» или «возможно», слово «наверняка» обладает некоторым жизнеутверждающим/игривым зарядом маленького ребенка, что азартно предполагает, как бы фамильярно заигрывая с хмурой судьбинушкой: «наверняка это случится!», «наверняка он уже обо всем знает!». Слово «наверняка» сразу же превращает любое предположение в незамысловатую игру с мирозданием. Как серьезный напиджаченный мужичок с кейсом в руке может шагать по половинящей дорогу зебре, не наступая на черные полосы, заигрывая с «окружением», так и человек, говорящий «наверняка!» заставляет ангелочков перманентно над ним зависающих чуть-чуть хихикнуть да покачать головой.
Еще интересно, что слово «наверняка» очень плохо стыкуется с негативными предположениями. «Наверняка он мне что-то крутое подарит!» – звучит органично. «Наверняка ты это смотрел/знаешь!» – тоже.
Но вот «наверняка у него ничего не получится…» – отнюдь.
«Наверняка» – это детское слово. А «ничего не получается» только у взрослых.
Посему наблюдать за тем, как юные ребяты, еще не познавшие болезненные столкновения с реальностью, которую, увы, не получается взломать одними лишь мечтами и «дисциплиной», отчаянно мечтают и стремятся, – то, чем мне очень нравится заниматься. Есть в этом наблюдении что-то противоречиво садисткое (ты знаешь, что у него с высокой вероятностью ничего не получится) и дарующее надежду на существование сказки (а вдруг!).
Мой любимый канал на ютубе – это «прорваться в нба» от юного пацана по имени Тимур из города Светогорск, который в названии почти каждого видео совершает орфографические ошибки, но маниакально стремится из своих ебеней телепортироваться в глянцевый мир лучшей лиги мира с миллионными контрактами и тысячами зрителей на арене. Там он в своих кустарных условиях пробует жить «как Стефен Карри», в запущенных залах с проваливающимися половицами бросает в кольцо, зимой отрабатывает технику в батином гараже и совершает множество других абсурдных манипуляций в погоне за мороком мечты.
В конце концов, если у него получится (во что я искренне верю!), то я смогу сделать монтажное кино-ответ документальному фильму «Hoop Dreams» Стива Джеймса, который совершил ровно противоположное – показал, как НЕ получилось.
Вообще, стоит этот абзац выделить для констатации очевидного факта: «Hoop Dreams» / «Баскетбольные мечты» – это лучшее кино про баскетбол из всех ныне существующих.
А этот абзац стоит выделить для констатации второго очевидного факта: лучшие фильмы про баскетбол – это фильмы, где у героев НЕ получается. «Тренер Картер», «Баскетбольные мечты», «Неограненные драгоценности» (отчасти).
В этом абзаце автор расскажет про что «Баскетбольные мечты». Есть два героя Артур и Уильям, – они оба хотят стать баскетболистами. Одного берут в престижную школу Ст. Джозеф, потому что тот очень перспективный и сильный. Второго не берут, потому что «ему чего-то не хватает». И их жизнь идет диаметрально разными маршрутами. Один потихоньку залазит на «олимп», второй изнывает от нищеты после того, как его отца посадили за торговлю наркотой. Один получает приглашения в престижные вузы со спортивной стипендией. Второй едва не срывается на блуждания по проторенным батей преступным маршрутам.
На обломках американской мечты – Hoop Dreams
часть 2
В этом абзаце автор расскажет чуть-чуть про создание фильма. Изначально «Hoop Dreams» планировался, как документальная короткометражная зарисовка для одной из служб общественного вещания, однако, увлекшись идеей и значительно расширив первоначальную концепцию, создатели «Hoop Dreams» следовали за двумя героями на протяжении пяти с лишним лет. Кино снято на обычную видеокамеру (на дворе девяностые, тогда еще обычно снимали на пленку), – у Стива Джеймса и Фредерика Маркса (монтажер, продюсер фильма) не было денег, чтобы позволить себе снимать на пленку.
В абзацах ниже автор пространно описывает кино, прибегая к распространенным абстрактным не-называниям/описаниям и филологическим вывертам в целях продемонстрировать, будто он читал больше одной книги за свою жизнь.
«Hoop Dreams» – это американские эмоциональные горки про реальных людей. Драматически историю выстроили так, что каждые пятнадцать минут происходит какой-то новый поворот – только начал верить, что у Уильяма все получится, а у него рецидив травмы. Кажется, будто Артур встанет на ноги – происходит что-то нехорошее. В конце концов, Хуп Дримс становится фиксированием медленного разложения человеческих чаяний, воронкой без дна, куда медленно утягивает действующих лиц. Герои проживают длинный маршрут, проходя от цветастых и ярких замков «мечты», инкрустированных золотом и бриллиантами, до мира долгов, наркоты и двухэтажных зданий разбитых мечт.
В фильме периодически фокус внимания сдвигается от двух мальчишек-мечтателей в сторону взрослых – отцов, старших братьев, преподавателей и других. Они, в отличие от юных баскетболистов, уже перестали мечтать, потому что это для них слишком накладно. Такой контраст не то что бы отрезвляет, а, скорее, показывает обратную сторону больших амбиций и мечт – сторону, где все уже давным-давно закончилось, но, кажется, до сих пор не отпустилось.
Среди всех разочарованных лиц выделяется брат Уильяма по имени Кертис. Он тоже мечтал стать баскетболистом и подавал большие надежды. Но не сложилось. Не получилось. Не дожал. Теперь он перебивается с одной паршивой работы на другую паршивую работу. И проживает свою нереализованную мечту через успехи брата, которому одновременно и завидует, и гордится, и помогает, и постоянно критикует. Его нынешняя жизнь – тощий призрак несовершенного, бултыхающийся внутри дородного черного тела недовольного уже не очень молодого человека. «Я мог», «Меня приглашали», «Уж я то знаю», «Дали бы мне шанс был бы сейчас в НБА» – вот фразы Кертиса, которые тот регулярно произносит.
Было бы неправильно воспринимать «Hoop Dreams» как кино сугубо о баскетболе, потому что оно таковым не является. Баскетбол, тренировки, трехочковые только предлог для видеодокументации универсального человеческого маршрута – от безбрежных мечт и визуализаций грядущих свершений, до куда более приземленного, трезвого и, наверное, разочарованного взгляда на действительность. Кажется, что поначалу мир учит тебя не сильно отрываться от земли в собственных мечтаниях, а после ты всю дорогу учишься не шаркать по асфальту, позволив себе – хотя бы на чуть-чуть – оторваться от земли.
часть 2
В этом абзаце автор расскажет чуть-чуть про создание фильма. Изначально «Hoop Dreams» планировался, как документальная короткометражная зарисовка для одной из служб общественного вещания, однако, увлекшись идеей и значительно расширив первоначальную концепцию, создатели «Hoop Dreams» следовали за двумя героями на протяжении пяти с лишним лет. Кино снято на обычную видеокамеру (на дворе девяностые, тогда еще обычно снимали на пленку), – у Стива Джеймса и Фредерика Маркса (монтажер, продюсер фильма) не было денег, чтобы позволить себе снимать на пленку.
В абзацах ниже автор пространно описывает кино, прибегая к распространенным абстрактным не-называниям/описаниям и филологическим вывертам в целях продемонстрировать, будто он читал больше одной книги за свою жизнь.
«Hoop Dreams» – это американские эмоциональные горки про реальных людей. Драматически историю выстроили так, что каждые пятнадцать минут происходит какой-то новый поворот – только начал верить, что у Уильяма все получится, а у него рецидив травмы. Кажется, будто Артур встанет на ноги – происходит что-то нехорошее. В конце концов, Хуп Дримс становится фиксированием медленного разложения человеческих чаяний, воронкой без дна, куда медленно утягивает действующих лиц. Герои проживают длинный маршрут, проходя от цветастых и ярких замков «мечты», инкрустированных золотом и бриллиантами, до мира долгов, наркоты и двухэтажных зданий разбитых мечт.
В фильме периодически фокус внимания сдвигается от двух мальчишек-мечтателей в сторону взрослых – отцов, старших братьев, преподавателей и других. Они, в отличие от юных баскетболистов, уже перестали мечтать, потому что это для них слишком накладно. Такой контраст не то что бы отрезвляет, а, скорее, показывает обратную сторону больших амбиций и мечт – сторону, где все уже давным-давно закончилось, но, кажется, до сих пор не отпустилось.
Среди всех разочарованных лиц выделяется брат Уильяма по имени Кертис. Он тоже мечтал стать баскетболистом и подавал большие надежды. Но не сложилось. Не получилось. Не дожал. Теперь он перебивается с одной паршивой работы на другую паршивую работу. И проживает свою нереализованную мечту через успехи брата, которому одновременно и завидует, и гордится, и помогает, и постоянно критикует. Его нынешняя жизнь – тощий призрак несовершенного, бултыхающийся внутри дородного черного тела недовольного уже не очень молодого человека. «Я мог», «Меня приглашали», «Уж я то знаю», «Дали бы мне шанс был бы сейчас в НБА» – вот фразы Кертиса, которые тот регулярно произносит.
Было бы неправильно воспринимать «Hoop Dreams» как кино сугубо о баскетболе, потому что оно таковым не является. Баскетбол, тренировки, трехочковые только предлог для видеодокументации универсального человеческого маршрута – от безбрежных мечт и визуализаций грядущих свершений, до куда более приземленного, трезвого и, наверное, разочарованного взгляда на действительность. Кажется, что поначалу мир учит тебя не сильно отрываться от земли в собственных мечтаниях, а после ты всю дорогу учишься не шаркать по асфальту, позволив себе – хотя бы на чуть-чуть – оторваться от земли.
Forwarded from ты не подонок, марк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ya v ahue
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2025/02/02/sport/lakers-mavericks-doncic-davis-spt
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2025/02/02/sport/lakers-mavericks-doncic-davis-spt
CNN
Los Angeles Lakers acquire Luka Doncic from Dallas Mavericks for Anthony Davis in blockbuster trade
The Los Angeles Lakers are acquiring NBA superstar Luka Doncic, as well as Maxi Kleber, Markieff Morris from the Dallas Mavericks for Anthony Davis, Max Christie and a Lakers 2029 first-round draft pick, the Mavericks said on Sunday.
последнее адекватное оправдание существования вк – невероятно огромный перечень размещенных там фильмов
Forwarded from ты не подонок, марк
где смотреть кино? (3)
всё также про онлайн
стоит оговориться, что все эти рекомендации про странное, экспериментальное кино.
почему? кажется круче смотреть первоисточники идей, ходов, решений.
вот и всё
ubu.com – это хорошо, но его сделали люди, у которых просто не было вконтакте
всё ещё самое понятное и простое место, чтобы искать или просто натыкаться на экспериментальные фильмы
и так, паблики!
«царь эдип»
«zen xiu»
«surrealism/experimental/avant-garde art cinema»
«cinema demencia»
«фильмы, которые мы так и не досмотрели»
как-то встретилась с моим бывшим однокурсником, киноведом и просто хорошим человеком Гришей
в Казахстане. в шашлычной.
он вспомнил, что в вк лежит фильм, у которого есть только два лайка –
от него и от меня.
при этом из нас двоих, конечно, смотрел его только он!
и, конечно, он у меня в watch-list в леттербоксе
показательная история про жемчужины, которые там лежат
в заключительной серии –
как заставить себя что-то из этого смотреть!
всё также про онлайн
стоит оговориться, что все эти рекомендации про странное, экспериментальное кино.
почему? кажется круче смотреть первоисточники идей, ходов, решений.
вот и всё
ubu.com – это хорошо, но его сделали люди, у которых просто не было вконтакте
всё ещё самое понятное и простое место, чтобы искать или просто натыкаться на экспериментальные фильмы
и так, паблики!
«царь эдип»
«zen xiu»
«surrealism/experimental/avant-garde art cinema»
«cinema demencia»
«фильмы, которые мы так и не досмотрели»
как-то встретилась с моим бывшим однокурсником, киноведом и просто хорошим человеком Гришей
в Казахстане. в шашлычной.
он вспомнил, что в вк лежит фильм, у которого есть только два лайка –
от него и от меня.
при этом из нас двоих, конечно, смотрел его только он!
и, конечно, он у меня в watch-list в леттербоксе
показательная история про жемчужины, которые там лежат
в заключительной серии –
как заставить себя что-то из этого смотреть!
Увидел трейлер и синопсис сериала "Ополченский романс", который снят по одноименному роману Захара Прилепина.
По сюжету – на Донбасс в 2014 году приезжает некий журналист с фамилией Суворов. Он хочет сделать материал про комбата Лесенцова, чтобы потом продать его в НЕМЕЦКУЮ газету. Однако по ходу действия он ПОМЕНЯЕТ свое мнение относительно деятельности ополченцев, изменит свои взгляды на профессию и, в целом, жизнь.
Что меня изрядно смущает и веселит во всех так называемых Za-проектах, какими бы они ни были, – это "провинциализм в провинции". Если представить, что российская квази-либеральная повестка, – это провинциальный взгляд на бытование американского общества и сознательное отнесение самих себя на периферию, то Za-проекты умудряются находить провинцию в уже провинциальном/зависимом мышлении – и это просто восхитительный в своей жалости прикол.
Типичный сюжет z-истории непредставим без Другого – карикатурного либерала, алчущего поскорее продаться куда-то за бугор, получить еврики/долллары и клясть родину за всё на свете. Именно запутавшийся либерал, зачастую, – основное действующее лицо там, где, казалось бы, их и быть не должно. Z-проекты, как бы они не декларировали собственную независимость и нежелание что-то кому бы то ни было доказывать, раз за разом, изнывая от рессентиментальных пароксизмов, тщатся что-то доказать либералу, который хочет что-то продать в ГЕРМАНИЮ, а должен просто любить Россию.
Ни справедливость, ни правда, ни счастье, ни что-то настоящее не может существовать без акта либерального саморазоблачения, прохождения через своеобразный акт инициации, в рамках которого он, наконец, ПОЙМЕТ, ОСОЗНАЕТ, ПОМЕНЯЕТСЯ. И, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ С НАМИ ДРУЖИТЬ.
Длительное просиживание в подвалах в качестве маргиналов породило у многих нынешних z-сторонников какой-то бешеный рессентимент, находящий воплощение в совершенно детской и достаточно жалкой форме – изощренным пыткам в целях подружиться, все-таки быть принятым в кружки просвещенных и красивых. Схватить, поменять и начать дружить. Выглядит это, повторюсь, крайне забавно.
https://youtu.be/GhTSptal9DI?si=51RuvJgrw5OyxGwI
По сюжету – на Донбасс в 2014 году приезжает некий журналист с фамилией Суворов. Он хочет сделать материал про комбата Лесенцова, чтобы потом продать его в НЕМЕЦКУЮ газету. Однако по ходу действия он ПОМЕНЯЕТ свое мнение относительно деятельности ополченцев, изменит свои взгляды на профессию и, в целом, жизнь.
Что меня изрядно смущает и веселит во всех так называемых Za-проектах, какими бы они ни были, – это "провинциализм в провинции". Если представить, что российская квази-либеральная повестка, – это провинциальный взгляд на бытование американского общества и сознательное отнесение самих себя на периферию, то Za-проекты умудряются находить провинцию в уже провинциальном/зависимом мышлении – и это просто восхитительный в своей жалости прикол.
Типичный сюжет z-истории непредставим без Другого – карикатурного либерала, алчущего поскорее продаться куда-то за бугор, получить еврики/долллары и клясть родину за всё на свете. Именно запутавшийся либерал, зачастую, – основное действующее лицо там, где, казалось бы, их и быть не должно. Z-проекты, как бы они не декларировали собственную независимость и нежелание что-то кому бы то ни было доказывать, раз за разом, изнывая от рессентиментальных пароксизмов, тщатся что-то доказать либералу, который хочет что-то продать в ГЕРМАНИЮ, а должен просто любить Россию.
Ни справедливость, ни правда, ни счастье, ни что-то настоящее не может существовать без акта либерального саморазоблачения, прохождения через своеобразный акт инициации, в рамках которого он, наконец, ПОЙМЕТ, ОСОЗНАЕТ, ПОМЕНЯЕТСЯ. И, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ С НАМИ ДРУЖИТЬ.
Длительное просиживание в подвалах в качестве маргиналов породило у многих нынешних z-сторонников какой-то бешеный рессентимент, находящий воплощение в совершенно детской и достаточно жалкой форме – изощренным пыткам в целях подружиться, все-таки быть принятым в кружки просвещенных и красивых. Схватить, поменять и начать дружить. Выглядит это, повторюсь, крайне забавно.
https://youtu.be/GhTSptal9DI?si=51RuvJgrw5OyxGwI
YouTube
Ополченский романс | Трейлер | PREMIER
Смотрите драматический сериал «Ополченский романс» с 18 февраля на PREMIER
Осенью 2014 года молодой и честолюбивый журналист Суворов едет на Донбасс, чтобы взять эксклюзивное интервью и прославиться. Однако впереди его ждёт много препятствий и ошибок, которые…
Осенью 2014 года молодой и честолюбивый журналист Суворов едет на Донбасс, чтобы взять эксклюзивное интервью и прославиться. Однако впереди его ждёт много препятствий и ошибок, которые…
Важно подчеркнуть, что троп с меняющимся "либералом" – это сравнительно распространенный способ показать ужасы войны или что-то в этом духе.
В моем любимом (анти)военном фильме "Красивые деревни красиво горят" один из главных героев – американская журналистка, которая по ходу действия сильно меняется. Только ее изменения протекают не в поле идеологическом (а-ля, я думала, что сербы злые, а оказалось хорошие), а в моральном – война превращает номинально принципиальную и смелую женщину в загнанного и отчаянного зверя, готового пойти на любые гнусные поступки в целях выживания. Срджан Драгоевич не преследует цели перетащить американку на сторону сербов, как и не пытается ее идеологически пересобрать. Цель другая – показать ужас войны и то, что она вообще с людьми делает.
В целом, из общения с людьми, кто за и кто против войны, заметил, что существует практически полноценный консенсус относительно кровожадности происходящего – тейки по типу "война – это ромашки и радость в каждый дом" редки до степени погрешности.
Но при этом в своих попытках переубедить / пересобрать / поменять пресловутых либералов, z-проекты рушат едва ли не единственную общую поляну для возможности осуществления какого-никакого будущего диалога (а он будет необходим, в случае, если хочется мало-мальски нормально и не-невротично жить). Поляна эта называется "война – это ебаная мясорубка". Создавая фильмы, где внезапно возникают всратые юнгеровские прославления войны, кровопролития и пр.
В конце концов, на этой поляне можно вполне успешно делать разномастные агитки. Как тот же "По соображениям совести" Мэла Гибсона – зверской и расчеловечивающей ленты, которая, однако, работает, ввиду того, что не пытается убедить людей, выросших в эпоху гуманизма и повальной депрессии, будто один человек стреляющий из автомата в другого – что-то правильное и само собой разумеющееся.
В моем любимом (анти)военном фильме "Красивые деревни красиво горят" один из главных героев – американская журналистка, которая по ходу действия сильно меняется. Только ее изменения протекают не в поле идеологическом (а-ля, я думала, что сербы злые, а оказалось хорошие), а в моральном – война превращает номинально принципиальную и смелую женщину в загнанного и отчаянного зверя, готового пойти на любые гнусные поступки в целях выживания. Срджан Драгоевич не преследует цели перетащить американку на сторону сербов, как и не пытается ее идеологически пересобрать. Цель другая – показать ужас войны и то, что она вообще с людьми делает.
В целом, из общения с людьми, кто за и кто против войны, заметил, что существует практически полноценный консенсус относительно кровожадности происходящего – тейки по типу "война – это ромашки и радость в каждый дом" редки до степени погрешности.
Но при этом в своих попытках переубедить / пересобрать / поменять пресловутых либералов, z-проекты рушат едва ли не единственную общую поляну для возможности осуществления какого-никакого будущего диалога (а он будет необходим, в случае, если хочется мало-мальски нормально и не-невротично жить). Поляна эта называется "война – это ебаная мясорубка". Создавая фильмы, где внезапно возникают всратые юнгеровские прославления войны, кровопролития и пр.
В конце концов, на этой поляне можно вполне успешно делать разномастные агитки. Как тот же "По соображениям совести" Мэла Гибсона – зверской и расчеловечивающей ленты, которая, однако, работает, ввиду того, что не пытается убедить людей, выросших в эпоху гуманизма и повальной депрессии, будто один человек стреляющий из автомата в другого – что-то правильное и само собой разумеющееся.
Я больше не хочу петь
«Джокер» Тодда Филлипса значительно отличается от всех предыдущих «Джокеров» своей оптикой.
Джокер как персонаж был вывернутым вовне, неспособным существовать вне антагонизма, вне экспансивных мегаломанских устремлений. Он не был полноценным субъектом. Как бы ни был притягателен и обворожителен Джокер в исполнении Хита Леджера – это персонаж зависимый, несамостоятельный и замкнутый в мрачной комнатке для допросов, в которой тот будет хлопать Бэтмену, смеяться, издеваться, но прекрасно осознавать свою солипсическую природу – как только Темный рыцарь выйдет из комнаты, перестав смотреть на безумного человека с гримом на лице, – Джокер исчезнет. Величайший рэпер поколения (и вселенной) Мирон Федоров говорил именно об этом.
Трагедия и преимущество Джокера в исполнении Феникса – в его бессовестной человечности.
Слабый, трусоватый, переполненный комплексами, ужасами детского насилия и дурно пахнущих белых трусов с выцветшими желтыми пятнами. В первом фильме стал героем улиц поневоле: максимально непривлекательно сойдя с ума. Без хитрых планов и тщательно распланированных действий. Как и положено настоящему безумцу, Артур Флек оставался незаметным на улицах мегаполиса как раз-таки потому, что даже не пытался скрываться.
Во втором же – отчаянно пытался найти что-то «родное». Или хотя бы какое-то оправдание его отсутствию. Тихой сапой утопая в дереализованных фантазиях о мире, где ему обнаружилось место, где можно уткнуться в любимый затылок и уснуть, позволив себе хотя бы на несколько часов забыть об ужасах существования в мире где-то «вовне».
Посему немудрено, что Тодд Филлипс сделал из второго «Джокера» квази-мюзикл.
Мюзикл – это самый дереализованный жанр. Все музыкальные номера, все песни и танцы, – все они предполагают преломление, изворачивание и замедление реальности; мюзикл по своей природе иррационален и фантастичен.
Все песни в «Джокере» появляются и исчезают практически незаметно, бесшовно. Они – часть водоворота дереализованного одиночества, холодного и бесприютного. Песни людей, неспособных найти близкое и родное, нежное и доверяющее. Поэтому, в целом, называть «Джокер» мюзиклом в привычном понимании не совсем правильно, – музыка и песни существуют здесь не для того, чтобы толкать / рассказывать историю, а затем, чтобы наиболее ярким образом указать на свистящий сквозняк на месте, где могла бы быть любовь и дружба. От этого каждая песня не являет собой цветастый перфоманс, выбивающийся из общей канвы мрачного повествования, – герои не то что бы поют, а как бы шепчут/бубнят себе под нос, либо истерично срываются на нечто похожее на крик, ибо странно стремиться попасть во все ноты, вытягивать до нужных тональностей, когда, в сущности, единственный, кому ты поешь – ты сам.
Второй «Джокер» – это предельно современное и актуальное кино (сори за штамп), которое вслед за рехнувшимся и вывернувшимся миром, решило вывернуть узнаваемую историю про безумца с гримом на лице в источающую болотистые миазмы грустную песню об обреченном одиночестве без шанса на спасение. Разве что утонуть в мире фантазий, подспудно осознавая, что однажды придется вынырнуть обратно – и будет уже нестерпимо больно.
Это очень болючее кино.
«Джокер» Тодда Филлипса значительно отличается от всех предыдущих «Джокеров» своей оптикой.
Джокер как персонаж был вывернутым вовне, неспособным существовать вне антагонизма, вне экспансивных мегаломанских устремлений. Он не был полноценным субъектом. Как бы ни был притягателен и обворожителен Джокер в исполнении Хита Леджера – это персонаж зависимый, несамостоятельный и замкнутый в мрачной комнатке для допросов, в которой тот будет хлопать Бэтмену, смеяться, издеваться, но прекрасно осознавать свою солипсическую природу – как только Темный рыцарь выйдет из комнаты, перестав смотреть на безумного человека с гримом на лице, – Джокер исчезнет. Величайший рэпер поколения (и вселенной) Мирон Федоров говорил именно об этом.
Трагедия и преимущество Джокера в исполнении Феникса – в его бессовестной человечности.
Слабый, трусоватый, переполненный комплексами, ужасами детского насилия и дурно пахнущих белых трусов с выцветшими желтыми пятнами. В первом фильме стал героем улиц поневоле: максимально непривлекательно сойдя с ума. Без хитрых планов и тщательно распланированных действий. Как и положено настоящему безумцу, Артур Флек оставался незаметным на улицах мегаполиса как раз-таки потому, что даже не пытался скрываться.
Во втором же – отчаянно пытался найти что-то «родное». Или хотя бы какое-то оправдание его отсутствию. Тихой сапой утопая в дереализованных фантазиях о мире, где ему обнаружилось место, где можно уткнуться в любимый затылок и уснуть, позволив себе хотя бы на несколько часов забыть об ужасах существования в мире где-то «вовне».
Посему немудрено, что Тодд Филлипс сделал из второго «Джокера» квази-мюзикл.
Мюзикл – это самый дереализованный жанр. Все музыкальные номера, все песни и танцы, – все они предполагают преломление, изворачивание и замедление реальности; мюзикл по своей природе иррационален и фантастичен.
Все песни в «Джокере» появляются и исчезают практически незаметно, бесшовно. Они – часть водоворота дереализованного одиночества, холодного и бесприютного. Песни людей, неспособных найти близкое и родное, нежное и доверяющее. Поэтому, в целом, называть «Джокер» мюзиклом в привычном понимании не совсем правильно, – музыка и песни существуют здесь не для того, чтобы толкать / рассказывать историю, а затем, чтобы наиболее ярким образом указать на свистящий сквозняк на месте, где могла бы быть любовь и дружба. От этого каждая песня не являет собой цветастый перфоманс, выбивающийся из общей канвы мрачного повествования, – герои не то что бы поют, а как бы шепчут/бубнят себе под нос, либо истерично срываются на нечто похожее на крик, ибо странно стремиться попасть во все ноты, вытягивать до нужных тональностей, когда, в сущности, единственный, кому ты поешь – ты сам.
Второй «Джокер» – это предельно современное и актуальное кино (сори за штамп), которое вслед за рехнувшимся и вывернувшимся миром, решило вывернуть узнаваемую историю про безумца с гримом на лице в источающую болотистые миазмы грустную песню об обреченном одиночестве без шанса на спасение. Разве что утонуть в мире фантазий, подспудно осознавая, что однажды придется вынырнуть обратно – и будет уже нестерпимо больно.
Это очень болючее кино.
а расскажите с какого фильма стабильно рыдаете, как побитая собака?
у меня такой "мост в терабитию" – вышибает стабильно и беспощадно
у меня такой "мост в терабитию" – вышибает стабильно и беспощадно
Увидел на днях в канале а можно потанцевальнее замечательный в своей простой, но смелой задумке пост – Антон Савенко (автор канала) рассказал о десяти общепризнанных великих альбомах, которые он еще не слушал.
Сделал он это, чтобы попытаться сбить градус напряжения у интернет-жителей, многие из которых находятся под вечным давлением незримого общественного экзаменатора: если ты что-то не видел – лошара; если ты что-то не читал – неуч; если ты что-то не слушал – духовный бомжара. Периодически действительно может создаваться впечатление, словно вокруг тебя люди живут не 24 часа, а все 72, внутри которых они 2 часа спят, а остальные 70 – яростно культуртрегерят.
Что? Ты не смотрел северо-македонское трехчасовое документальное порно с плюшевыми львятами и живым бамбуком, где на 2:14 растение аккуратно шелестит слово "Шоа", тем самым задавая немой вопрос возможна ли поэзия на китайских потогонках после Освенцима? Мда, чел выйди из комнаты, ты нас всех позоришь.
Единственное, позволю себе чуток расширить первоначальную концепцию (о муз.альбомах я много не выдавлю) на всю площадь так называемой "культурки". Время открыто признаваться, что ты что-то не знаешь и стоически выхватывать пиздюлей в комментариях. Если наберетесь смелости рассказать что-то про себя в комментах или у себя в каналах – будет круто.
1. Я ничего не читал у Толстого. "Война и мир", который я в конечном счете забросил спустя страниц так 80, убил во мне всякое желание читать бородатого дядьку. Последние пару лет пытаюсь заставить себя к нему подступиться, но не получается. Притом, что остальную ру-классику воспринимаю совершенно спокойно.
2. Я не смотрел "Форрест Гамп".
3. Я не слышал Lana Del Rey — Born to Die
4. Я не смотрел "Амели"
5. Я не смотрел "Бригаду"
6. Я не смотрел "Бункер"
7. До сих пор не добрался до "Зодиака" (я не знаю, как так получилось)
8. Не смотрел ни одного аниме, кроме Могилы светлячков, Аватара (Аанг и Кора) и Миадзаки.
9. Не видел "Горбатую гору" (хотя казалось бы!)
10. Не смотрел "Простая история" Линча
///
Голодные игры объявляются открытыми.
Сделал он это, чтобы попытаться сбить градус напряжения у интернет-жителей, многие из которых находятся под вечным давлением незримого общественного экзаменатора: если ты что-то не видел – лошара; если ты что-то не читал – неуч; если ты что-то не слушал – духовный бомжара. Периодически действительно может создаваться впечатление, словно вокруг тебя люди живут не 24 часа, а все 72, внутри которых они 2 часа спят, а остальные 70 – яростно культуртрегерят.
Что? Ты не смотрел северо-македонское трехчасовое документальное порно с плюшевыми львятами и живым бамбуком, где на 2:14 растение аккуратно шелестит слово "Шоа", тем самым задавая немой вопрос возможна ли поэзия на китайских потогонках после Освенцима? Мда, чел выйди из комнаты, ты нас всех позоришь.
Единственное, позволю себе чуток расширить первоначальную концепцию (о муз.альбомах я много не выдавлю) на всю площадь так называемой "культурки". Время открыто признаваться, что ты что-то не знаешь и стоически выхватывать пиздюлей в комментариях. Если наберетесь смелости рассказать что-то про себя в комментах или у себя в каналах – будет круто.
1. Я ничего не читал у Толстого. "Война и мир", который я в конечном счете забросил спустя страниц так 80, убил во мне всякое желание читать бородатого дядьку. Последние пару лет пытаюсь заставить себя к нему подступиться, но не получается. Притом, что остальную ру-классику воспринимаю совершенно спокойно.
2. Я не смотрел "Форрест Гамп".
3. Я не слышал Lana Del Rey — Born to Die
4. Я не смотрел "Амели"
5. Я не смотрел "Бригаду"
6. Я не смотрел "Бункер"
7. До сих пор не добрался до "Зодиака" (я не знаю, как так получилось)
8. Не смотрел ни одного аниме, кроме Могилы светлячков, Аватара (Аанг и Кора) и Миадзаки.
9. Не видел "Горбатую гору" (хотя казалось бы!)
10. Не смотрел "Простая история" Линча
///
Голодные игры объявляются открытыми.
о маленькости
В одной из своих телеграм-заметок мой любимый автор Сергей Кулешов прописал о «Здесь и сейчас» Влады Лавреновой формулировку, которая мне очень запомнилась: «это кино о скромности травмы, снятое в эпоху, когда из травм сооружают глиняных колоссов». Понятное дело, что это высказывание о конкретном фильме конкретного человека, однако позволю себе немного экстраполировать на чуть более широкие форматы, потому что «тренд» на так называемое «колоссирование» небольших душевных повреждений меня довольно сильно в последнее время занимает.
Недавно, привычно (как и почти любой другой человек, который пишет о кино = латентно сублимирует/фрустрирует от невозможности/страха делать что-то свое, большое) размышляя о том, какое бы кино я снял, будь у меня возможность, удивился мелкости собственных представлений.
Среди первоступенчатых идей, что приходят в голову, не было ничего по-настоящему глобального – ни тебе «Дюны» на пятьдесят миллионов страниц раскадровок, ни экспериментальных/авангардных/сумасбродных идей, этакого летовского «русского прорыва», а только лишь довольно приземленные, «пленочные» идеи. (ну вот, мне еще не сорок лет, а я отсылаюсь к Летову, какой позор).
Что-то по типу «рассказать о разбитом сердечке», о трудовых буднях отца, полулегально протрудившегося всю жизнь и выписавшего себе монументальную пенсию в 16к рублей вместе с инсультом, нелепые зарисовки о молодости и старости. Незначительных поползновениях чего-то близкого и трогательного, что нашло свое место между параграфами гражданского и уголовного кодексов. В общем, что-то маленькое, не особо значительное, совсем не увесистое, мелкое и предельно банальное. Ни о каком летовском «русском прорыве», а тем более «зоопарке» и речи не идет (ну вот, мне еще не сорок лет, а я отсылаюсь к Летову, умен не по годам!).
Поспрашивал своих знакомых и друзей – у них тоже самое. Мелкое, нелепое, странное и будничное. Летовых нет, одни ебучие Лагутенко.
Известная истина, что чем дольше ковыряться в чужих акканутах на леттербоксе и ласт.фм – тем явственнее ощущение, будто ты ничего не смотрел. У одного триллион прослушанных альбомов патлатых норвежских завывателей, что днем торгуют кофе за стойкой скандинавской кофейни. У другого под десять тысяч просмотренных фильмов, среди которых примерно половина – это короткометражные фильмы бедолаг, что бессмысленно и бессодержательно катаются по фестивалям в поисках господского пряника, который с хитрым прищуром предложит обменять декларативную принципиальность на фантомные возможности.
Кино как Событие, объединяющее и способное как бы существовать вне идеологических, социальных и других препон, после коронавирусного эксплозивного расширения пространства смотрения, куда-то пропало. Забавно, но, кажется, последним фильмом, объединившим вокруг себя огромное количество людей, побудив тех сходить в кино, – последние «Мстители». Такой последний романтический миф о больших героях, больших свершениях. Где было место и откровенной тупости, и китчу, и совершенно безумным, мегаломанским амбициям. С другой стороны, если такого в большом кино нет, то является ли оно большим кино? Вот Летов тоже позволял себе мегаломанить и ломать конвенциональные представления о качестве, а про него теперь подкаст Горбачев делает! (ну вот, мне еще не сорок лет, а я отсылаюсь к Летову, как же всем похуй).
При этом, в современном кино никогда не было так много самого разного инди-кино совершенно разного толка – от деколонизирующих и феминистких, до экуменических и разобщающих. Кажется, что человек, увидевший собственное отражение в буйной луже двадцать первого века, где всё вокруг рассуждает сугубо о большом, прорывном и беспрецедентном, стал искать место для того, чтобы спрятаться, закрыться, посидеть в тишине и, по крайней мере, два часа ничего и никого не слышать. Замкнуться на себе. И в мире, требующем постоянного включения и соучастия, даже если не шаришь, даже если страшно, даже если не хочешь – залезть с головой под одеяло и просто поковырять крохотные болячки.
Трудно за это осуждать.
В одной из своих телеграм-заметок мой любимый автор Сергей Кулешов прописал о «Здесь и сейчас» Влады Лавреновой формулировку, которая мне очень запомнилась: «это кино о скромности травмы, снятое в эпоху, когда из травм сооружают глиняных колоссов». Понятное дело, что это высказывание о конкретном фильме конкретного человека, однако позволю себе немного экстраполировать на чуть более широкие форматы, потому что «тренд» на так называемое «колоссирование» небольших душевных повреждений меня довольно сильно в последнее время занимает.
Недавно, привычно (как и почти любой другой человек, который пишет о кино = латентно сублимирует/фрустрирует от невозможности/страха делать что-то свое, большое) размышляя о том, какое бы кино я снял, будь у меня возможность, удивился мелкости собственных представлений.
Среди первоступенчатых идей, что приходят в голову, не было ничего по-настоящему глобального – ни тебе «Дюны» на пятьдесят миллионов страниц раскадровок, ни экспериментальных/авангардных/сумасбродных идей, этакого летовского «русского прорыва», а только лишь довольно приземленные, «пленочные» идеи. (ну вот, мне еще не сорок лет, а я отсылаюсь к Летову, какой позор).
Что-то по типу «рассказать о разбитом сердечке», о трудовых буднях отца, полулегально протрудившегося всю жизнь и выписавшего себе монументальную пенсию в 16к рублей вместе с инсультом, нелепые зарисовки о молодости и старости. Незначительных поползновениях чего-то близкого и трогательного, что нашло свое место между параграфами гражданского и уголовного кодексов. В общем, что-то маленькое, не особо значительное, совсем не увесистое, мелкое и предельно банальное. Ни о каком летовском «русском прорыве», а тем более «зоопарке» и речи не идет (ну вот, мне еще не сорок лет, а я отсылаюсь к Летову, умен не по годам!).
Поспрашивал своих знакомых и друзей – у них тоже самое. Мелкое, нелепое, странное и будничное. Летовых нет, одни ебучие Лагутенко.
Известная истина, что чем дольше ковыряться в чужих акканутах на леттербоксе и ласт.фм – тем явственнее ощущение, будто ты ничего не смотрел. У одного триллион прослушанных альбомов патлатых норвежских завывателей, что днем торгуют кофе за стойкой скандинавской кофейни. У другого под десять тысяч просмотренных фильмов, среди которых примерно половина – это короткометражные фильмы бедолаг, что бессмысленно и бессодержательно катаются по фестивалям в поисках господского пряника, который с хитрым прищуром предложит обменять декларативную принципиальность на фантомные возможности.
Кино как Событие, объединяющее и способное как бы существовать вне идеологических, социальных и других препон, после коронавирусного эксплозивного расширения пространства смотрения, куда-то пропало. Забавно, но, кажется, последним фильмом, объединившим вокруг себя огромное количество людей, побудив тех сходить в кино, – последние «Мстители». Такой последний романтический миф о больших героях, больших свершениях. Где было место и откровенной тупости, и китчу, и совершенно безумным, мегаломанским амбициям. С другой стороны, если такого в большом кино нет, то является ли оно большим кино? Вот Летов тоже позволял себе мегаломанить и ломать конвенциональные представления о качестве, а про него теперь подкаст Горбачев делает! (ну вот, мне еще не сорок лет, а я отсылаюсь к Летову, как же всем похуй).
При этом, в современном кино никогда не было так много самого разного инди-кино совершенно разного толка – от деколонизирующих и феминистких, до экуменических и разобщающих. Кажется, что человек, увидевший собственное отражение в буйной луже двадцать первого века, где всё вокруг рассуждает сугубо о большом, прорывном и беспрецедентном, стал искать место для того, чтобы спрятаться, закрыться, посидеть в тишине и, по крайней мере, два часа ничего и никого не слышать. Замкнуться на себе. И в мире, требующем постоянного включения и соучастия, даже если не шаришь, даже если страшно, даже если не хочешь – залезть с головой под одеяло и просто поковырять крохотные болячки.
Трудно за это осуждать.