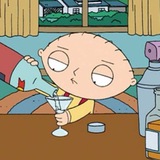В Polyandria NoAge x Есть смысл выходит роман Светланы Олонцевой «Дислексия» о молодой школьной учительнице литературы. Коллеги попросили меня сказать несколько слов о книге, но, как всегда, слов получилось больше, чем уместилось на обложке.
Если нашу современную жизнь попробовать сжать до размеров одного какого-то государственного учреждения, то получится школа из романа Светланы Олонцевой. Дети, которые мечтают поскорее вырваться прочь и уехать куда-то в прекрасное далеко; взрослые, которые давно растратили свою человечность, но отчего-то продолжающие верить в собственное призвание. В чем смысл этого призвания, конечно, никто не помнит, осталась только функция – быть винтиком в школьном (травмирующем, по большей части) механизме.
Несчастливы все, но это неважно, ведь кому какое дело.
И есть Саня, учительница, для которой еще не все слова потеряли смысл, хотя ей самой от этого не легче. Даже напротив. Она не знает, что делать со всеми своими знаниями, мечтами, своей человечностью и слабостью. И никто из нас тоже не знает, что со всем этим делать, ведь вокруг самовоспроизводящаяся травма. Единственное, что знает Саня – и о чем напоминает нам – что даже в этой ситуации можно сохранить надежду на какую-то лучшую, вернее, правильную жизнь. Да, мы не знаем, где ее искать, откуда она берется, но что где-то она обязана быть – мы чувствуем. И Саня это чувствует тоже.
Роман небольшой и хороший, я советую.
@polyandria
@smyslshop
Если нашу современную жизнь попробовать сжать до размеров одного какого-то государственного учреждения, то получится школа из романа Светланы Олонцевой. Дети, которые мечтают поскорее вырваться прочь и уехать куда-то в прекрасное далеко; взрослые, которые давно растратили свою человечность, но отчего-то продолжающие верить в собственное призвание. В чем смысл этого призвания, конечно, никто не помнит, осталась только функция – быть винтиком в школьном (травмирующем, по большей части) механизме.
Несчастливы все, но это неважно, ведь кому какое дело.
И есть Саня, учительница, для которой еще не все слова потеряли смысл, хотя ей самой от этого не легче. Даже напротив. Она не знает, что делать со всеми своими знаниями, мечтами, своей человечностью и слабостью. И никто из нас тоже не знает, что со всем этим делать, ведь вокруг самовоспроизводящаяся травма. Единственное, что знает Саня – и о чем напоминает нам – что даже в этой ситуации можно сохранить надежду на какую-то лучшую, вернее, правильную жизнь. Да, мы не знаем, где ее искать, откуда она берется, но что где-то она обязана быть – мы чувствуем. И Саня это чувствует тоже.
Роман небольшой и хороший, я советую.
@polyandria
@smyslshop
❤20👍5
Прочитал свежее интервью Марианы Энрикес, аргентинской писательницы, о сборнике рассказов которой ("Опасности курения в постели") я недавно рассказывал. Помимо прочего, она говорит о своем отношении к искусству, созданному, скажем так, людьми не самыми хорошими. Что делать с книгами, авторы которых могли совершать отвратительные или даже преступные поступки?
Не буду распространяться о своем отношении к теме, но все же есть что-то успокаивающее в том, что где-то такие дискуссии еще ведутся. Как будто не было измен, как будто не было разлук.
Ниже - цитата.
***
Когда возникает дилемма идеологического, этического характера, я стараюсь размышлять здесь и сейчас. Вот скажите, как вы вообще себе это представляете? Я беру книгу и, прежде чем начать ее читать, захожу в Google, чтобы посмотреть, была ли судимость у того или другого мужчины или женщины? И что делать, если такой информации в тот момент нет? Я прочитала книгу, она мне понравилась, а через три года появляются новые [порочащие] факты, которые ранее не были известны. Стоит ли мне выбросить книгу? Корить себя за прочитанное? Я не понимаю, как это работает.
<…>
Люди живут с этическими дилеммами, у каждого в мире есть темная сторона, и у одних она больше, чем у других. Но думать, что нужно потреблять только искусство, созданное прекрасными душами, неправильно. Это неправдоподобно. Нет идеального человека с идеальной душой. Конечно, есть дистанция между серийным убийцей и человеком, который кричит на своих детей, но где проходят границы?
Например, недавно произошел случай с Фланнери О'Коннор, которую любят очень многие, которой зачитывались феминистки. Не так давно были найдены несколько ее писем, где писательница очень вольно, свободно говорит о своем расизме. Да, она была расисткой с юга. И что нам теперь делать с О'Коннор? Стоит ли нам перестать ее читать? Что нам делать со всем, что мы говорили о ней в литературных мастерских, где мы читали ее и учились писать, как Фланнери? Что нам делать с дискуссиями о том, была ли Фланнери лучше Фолкнера? То, что мы сегодня точно знаем, так это то, что Фолкнер был меньшим расистом, чем О'Коннор.
<…>
Мне нравится (т.е. мне важно) знать, что Фланнери был расисткой. Это помогает мне смотреть на ее тексты в другом свете. Она была женщиной своего времени, и женщиной блестящей.
<…>
Сейчас я нахожусь в доме на побережье Коста-Брава, это моя первая писательская резиденция. Здесь, в этом доме, Трумэн Капоте дорабатывал свое «Хладнокровное убийство» <…> И у него была этическая дилемма: Капоте знал, что для книги будет лучше, если героев его истории убьют. Трумэн подружился с одним из них [с Перри Смитомом], не знаю, были ли они влюблены друг в друга, но, да, у него было к нему влечение. И Трумэн в этом самом доме думал о том, что лучшим финалом для его книги будет убийство парней, один из которых при других обстоятельствах мог бы быть его любовником. <…> И Трумэн ничего не сделал.
<…>
Он желал, чтобы те двое парней умерли, чтобы его книга стала великой книгой и имела издательский успех. И так оно и произошло. Посреди этого чудесного пейзажа Коста-Бравы Капоте терял свою душу, главным образом, из-за книги. Это стоило того? Это – то есть «Хладнокровное убийство», одно из произведений, давших начало современной журналистике.
Не буду распространяться о своем отношении к теме, но все же есть что-то успокаивающее в том, что где-то такие дискуссии еще ведутся. Как будто не было измен, как будто не было разлук.
Ниже - цитата.
***
Когда возникает дилемма идеологического, этического характера, я стараюсь размышлять здесь и сейчас. Вот скажите, как вы вообще себе это представляете? Я беру книгу и, прежде чем начать ее читать, захожу в Google, чтобы посмотреть, была ли судимость у того или другого мужчины или женщины? И что делать, если такой информации в тот момент нет? Я прочитала книгу, она мне понравилась, а через три года появляются новые [порочащие] факты, которые ранее не были известны. Стоит ли мне выбросить книгу? Корить себя за прочитанное? Я не понимаю, как это работает.
<…>
Люди живут с этическими дилеммами, у каждого в мире есть темная сторона, и у одних она больше, чем у других. Но думать, что нужно потреблять только искусство, созданное прекрасными душами, неправильно. Это неправдоподобно. Нет идеального человека с идеальной душой. Конечно, есть дистанция между серийным убийцей и человеком, который кричит на своих детей, но где проходят границы?
Например, недавно произошел случай с Фланнери О'Коннор, которую любят очень многие, которой зачитывались феминистки. Не так давно были найдены несколько ее писем, где писательница очень вольно, свободно говорит о своем расизме. Да, она была расисткой с юга. И что нам теперь делать с О'Коннор? Стоит ли нам перестать ее читать? Что нам делать со всем, что мы говорили о ней в литературных мастерских, где мы читали ее и учились писать, как Фланнери? Что нам делать с дискуссиями о том, была ли Фланнери лучше Фолкнера? То, что мы сегодня точно знаем, так это то, что Фолкнер был меньшим расистом, чем О'Коннор.
<…>
Мне нравится (т.е. мне важно) знать, что Фланнери был расисткой. Это помогает мне смотреть на ее тексты в другом свете. Она была женщиной своего времени, и женщиной блестящей.
<…>
Сейчас я нахожусь в доме на побережье Коста-Брава, это моя первая писательская резиденция. Здесь, в этом доме, Трумэн Капоте дорабатывал свое «Хладнокровное убийство» <…> И у него была этическая дилемма: Капоте знал, что для книги будет лучше, если героев его истории убьют. Трумэн подружился с одним из них [с Перри Смитомом], не знаю, были ли они влюблены друг в друга, но, да, у него было к нему влечение. И Трумэн в этом самом доме думал о том, что лучшим финалом для его книги будет убийство парней, один из которых при других обстоятельствах мог бы быть его любовником. <…> И Трумэн ничего не сделал.
<…>
Он желал, чтобы те двое парней умерли, чтобы его книга стала великой книгой и имела издательский успех. И так оно и произошло. Посреди этого чудесного пейзажа Коста-Бравы Капоте терял свою душу, главным образом, из-за книги. Это стоило того? Это – то есть «Хладнокровное убийство», одно из произведений, давших начало современной журналистике.
LA NACION
La escritora Mariana Enriquez muestra su lado más fan, rockero e íntimo: “No me da pudor que se sepan cosas”
👍13🔥10
Смотрю классный сериал The Other Black Girl (прочитал о нем, кстати, у Димы в канале @palomeheart). Это история о молодой темнокожей девушке, которая работает помощницей редактора в одном большом старом издательстве, и там с ней происходит всякое. Тем, кто трудится в книжной индустрии, горячо рекомендую посмотреть – в сериале есть элементы легкого психологического триллера, но главное не это, а то, как смешно (и точно) изображен издательский мир.
В начале сериала есть забавная сцена – нашей героине начальница дает прочитать рукопись Очень Важного Писателя и просит честно сказать (ну вы понимаете), что она думает по поводу текста. А этот писатель – такой самодвольный цисгендерный белый мужчина – написал роман, в котором есть одна-единственная темнокожая героиня, и именно она-то ну просто какое-то исчадие ада на земле. Наркоманка, злыдня и чудовищная редиска.
Девушка указала на эту несколько скользкую ситуацию начальнице, тактично намекнув, что как-то оно это, того... сомнительно получается. В ответ редактор, конечно, опешила. Потерла переносицу, оскорбленная в лучших чувствах, покашляла (не для таких замечаний она давала рукопись, не для таких!).
- Но, прости, ты же сама просила меня не стесняться в выражениях, - робко говорит темнокожая девушка.
- И ты не постеснялась, моя дорогая, и ты не постеснялась, - укоризненно качает головой начальница.
Понятно, что все это поставило нашу героиню на грань увольнения (в реальной жизни это бы отправило ее далеко за ту самую грань), однако потом, благодаря ряду чудес, увольнения не случается, а случается повышение (в эту часть истории мы не верим, но для увлекательности сойдет). Книжка, кстати, в итоге и правда стала причиной скандала, писателю пришлось реагировать, и это тоже очень смешно. Дымя трубкой и буквально лопаясь от удивленного возмущения, в ролике на ютубе он вопрошал:
- И кого же они обвинили в расизме! Кого?! Меня?!! ДА Я САМЫЙ ТОЛЕРАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ВСЕХ, КОГО Я ЗНАЮ ВООБЩЕ!!!!
Короче, я смеялся в голос.
В начале сериала есть забавная сцена – нашей героине начальница дает прочитать рукопись Очень Важного Писателя и просит честно сказать (ну вы понимаете), что она думает по поводу текста. А этот писатель – такой самодвольный цисгендерный белый мужчина – написал роман, в котором есть одна-единственная темнокожая героиня, и именно она-то ну просто какое-то исчадие ада на земле. Наркоманка, злыдня и чудовищная редиска.
Девушка указала на эту несколько скользкую ситуацию начальнице, тактично намекнув, что как-то оно это, того... сомнительно получается. В ответ редактор, конечно, опешила. Потерла переносицу, оскорбленная в лучших чувствах, покашляла (не для таких замечаний она давала рукопись, не для таких!).
- Но, прости, ты же сама просила меня не стесняться в выражениях, - робко говорит темнокожая девушка.
- И ты не постеснялась, моя дорогая, и ты не постеснялась, - укоризненно качает головой начальница.
Понятно, что все это поставило нашу героиню на грань увольнения (в реальной жизни это бы отправило ее далеко за ту самую грань), однако потом, благодаря ряду чудес, увольнения не случается, а случается повышение (в эту часть истории мы не верим, но для увлекательности сойдет). Книжка, кстати, в итоге и правда стала причиной скандала, писателю пришлось реагировать, и это тоже очень смешно. Дымя трубкой и буквально лопаясь от удивленного возмущения, в ролике на ютубе он вопрошал:
- И кого же они обвинили в расизме! Кого?! Меня?!! ДА Я САМЫЙ ТОЛЕРАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ВСЕХ, КОГО Я ЗНАЮ ВООБЩЕ!!!!
Короче, я смеялся в голос.
😁29👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Так-так, в феврале 2024-го выйдет новая экранизация "Сегуна" Джеймса Клавелла. Думаю, все помнят мини-сериал 1980 года (который в России показывали, конечно, в 90-х, то есть в моем детстве) про то, как английский моряк в начале XVII века оказался в Японии, ну и там началось - интриги, скандалы, кровь, любовь и гейши. Вот пишу об этом, и прямо как в машину времени захожу, хотя сам роман Клавелла совсем не моя чашка чая, а по нынешним меркам в нем есть немного больше экзотизации, чем нужно. Но все равно - жду, жду: в главных ролях - вездесущий Хироюки Санада и (удивительно деревянный, на мой взгляд) Космо Джарвис.
🔥20
Наткнулся на аргентинскую книгу-жемчужину, которая вряд ли будет переведена на русский, а жаль, бог знает, когда я смогу прочитать ее в оригинале.
«Владимир» - свежий роман аргентинки Летиции Мартин. Это история набоковской Лолиты наоборот, развивающаяся, к тому же, на фоне конца света. По сюжету, Гвинея вынуждена уволиться из университета США, где преподавала литературу, так как стало известно о ее любовной связи со студентом.
Она отправляется в родной Буэнос-Айрес, и тут-то ее и настигает тот самый конец света (почти буквально): отключается электричество по всему миру, в городе хаос, и из этого хаоса ее спасает добрый мужчина, отец-одиночка. Он приглашает Гвинею пожить с ним, а дома у него есть сын-подросток, Владимир.
И пока за окнами расцветают грабежи и насилие, и вообще непонятно, чем дело кончится, внутри дома отношения Гвинеи с новоявленным партнером идут так себе, а вот их (взаимные?) чувства с Владимиром, напротив, растут день ото дня.
Книгу переводят на разные языки, а критики хвалят. Ох и ах!
«Владимир» - свежий роман аргентинки Летиции Мартин. Это история набоковской Лолиты наоборот, развивающаяся, к тому же, на фоне конца света. По сюжету, Гвинея вынуждена уволиться из университета США, где преподавала литературу, так как стало известно о ее любовной связи со студентом.
Она отправляется в родной Буэнос-Айрес, и тут-то ее и настигает тот самый конец света (почти буквально): отключается электричество по всему миру, в городе хаос, и из этого хаоса ее спасает добрый мужчина, отец-одиночка. Он приглашает Гвинею пожить с ним, а дома у него есть сын-подросток, Владимир.
И пока за окнами расцветают грабежи и насилие, и вообще непонятно, чем дело кончится, внутри дома отношения Гвинеи с новоявленным партнером идут так себе, а вот их (взаимные?) чувства с Владимиром, напротив, растут день ото дня.
Книгу переводят на разные языки, а критики хвалят. Ох и ах!
🔥19👍6
Прочитал роман японки Канаэ Минато «Признания» (Inspiria). Книга хоть и небольшая, как я люблю, но в ней уместилось много человеческих историй и поворотов сюжета. У главной героини, школьной учительницы Моригути, погибает маленькая дочь при странных обстоятельствах. Довольно быстро мать выясняет, что дочь не просто погибла – ее убили, причем убили школьники, которых она и учит. Далее перед читателем разворачивается картина изощренной мести, которую Моригути подготовила для двух подростков, совершивших преступление (и которая затронет не только их, не только самих виновных).
Собственно, это все, что можно сказать о сюжете, не делая спойлеров, а в данном случае спойлеры могут серьезно испортить удовольствие от чтения книги. В романе много тем, над которыми интересно думать, но самым любопытным кажется разговор не о том, что делать с детьми-убийцами (как их наказывать, как предотвращать все это), а разговор о мести, как таковой.
Давным-давно, когда Пэрис Хилтон была еще звездой, а я ходил в университет, меня поразил фильм Пак Чхан-ука «Сочувствие госпоже Месть». Это одна из частей знаменитой «трилогии мести», в которой женщина мстит убийце детей, сущему дьяволу, если честно. И месть ее действительно ужасна и кровава. Меня, как и многих других зрителей, поражало, наверное, в первую очередь то, как откровенно положительно была показана режиссером сама идея мести. Помню, читал даже какую-то умную статью на эту тему: забытый мной критик с множеством доводов (и убедительно) объяснял, что такая сила воздействия фильма на западную аудиторию связана, в том числе, с тем, что идея «справедливой» мести идет в разрез с моралью и этикой той самой западной аудитории. И все же эта идея завораживает – благодаря мастерству Пак Чхан-ука.
Все-таки, несмотря на «око за око и зуб за зуб», в западном сознании месть не то чтобы не может быть оправданной, но по дефолту это понятие имеет негативную коннотацию. Идея прощения/искупления какое-то время назад со скрипом, но победила. Для наказания существует суд, а не отчаявшаяся жертва (или ее родственники). В обществах же более традиционных, как в той же Южной Корее или Японии, где, скажем, честь имеет совсем другой удельный вес, месть зачастую воспринимается иначе. Она лишена не то что негативной коннотации, но порой абсолютно оправдана и может быть даже ожидаемой окружающими.
Эту разницу в оценке мести можно хорошо почувствовать, если сразу после «Сочувствия госпоже Месть» посмотреть, например, немецко-французский фильм «На пределе», получивший в 2018 году «Золотой глобус», с Дайан Крюгер в главной роли. Там героиня Крюгер в результате теракта, устроенного националистами, теряет мужа и детей, и весь фильм это, собственно, терзания женщины: мстить или не мстить за семью?
Мстить или не мстить – вот в чем вопрос. И 106 минут терзаний.
У героев же Пак Чхан-Ука этих терзаний нет, как и у героини «Признания» (книжка, кстати, вышла в 2008 году, а в 2010-м была с успехом экранизирована). У этих героев есть только одно размышление – о том, как же лучше осуществить задуманное, как сделать месть по-настоящему изощренной, сделать так, чтобы преступники ощутили те же муки, что их жертвы и их близкие.
(Идея отомстить миру любовью, как завещал классик, не принимается).
Я не хочу сказать, что один уклад лучше другого, речь не об этом, конечно, но интересным мне кажется то, что постепенно эта идея оправданности мести берет верх и в западном обществе, по крайней мере, в него прорастает. Это можно заметить по великому множеству фильмов и книг, в которых, допустим, женщины мстят мужчинам (и платят за абьюз и насилие – смертью), или, скажем, бедные так же кроваво мстят богатым за несправедливое устройство общества.
(Я сейчас не защищаю ни мужчин, ни богатых, если что, я, пожалуй, последний кто будет защищать укоренившееся неравенство любой масти).
Если захотеть, впрочем, идею оправданной мести можно увидеть и не только в кино и книжках, но и просто открыв ленту новостей.
Хорошо ли это? Не знаю. Я не уверен.
А книжка хорошая, да.
Собственно, это все, что можно сказать о сюжете, не делая спойлеров, а в данном случае спойлеры могут серьезно испортить удовольствие от чтения книги. В романе много тем, над которыми интересно думать, но самым любопытным кажется разговор не о том, что делать с детьми-убийцами (как их наказывать, как предотвращать все это), а разговор о мести, как таковой.
Давным-давно, когда Пэрис Хилтон была еще звездой, а я ходил в университет, меня поразил фильм Пак Чхан-ука «Сочувствие госпоже Месть». Это одна из частей знаменитой «трилогии мести», в которой женщина мстит убийце детей, сущему дьяволу, если честно. И месть ее действительно ужасна и кровава. Меня, как и многих других зрителей, поражало, наверное, в первую очередь то, как откровенно положительно была показана режиссером сама идея мести. Помню, читал даже какую-то умную статью на эту тему: забытый мной критик с множеством доводов (и убедительно) объяснял, что такая сила воздействия фильма на западную аудиторию связана, в том числе, с тем, что идея «справедливой» мести идет в разрез с моралью и этикой той самой западной аудитории. И все же эта идея завораживает – благодаря мастерству Пак Чхан-ука.
Все-таки, несмотря на «око за око и зуб за зуб», в западном сознании месть не то чтобы не может быть оправданной, но по дефолту это понятие имеет негативную коннотацию. Идея прощения/искупления какое-то время назад со скрипом, но победила. Для наказания существует суд, а не отчаявшаяся жертва (или ее родственники). В обществах же более традиционных, как в той же Южной Корее или Японии, где, скажем, честь имеет совсем другой удельный вес, месть зачастую воспринимается иначе. Она лишена не то что негативной коннотации, но порой абсолютно оправдана и может быть даже ожидаемой окружающими.
Эту разницу в оценке мести можно хорошо почувствовать, если сразу после «Сочувствия госпоже Месть» посмотреть, например, немецко-французский фильм «На пределе», получивший в 2018 году «Золотой глобус», с Дайан Крюгер в главной роли. Там героиня Крюгер в результате теракта, устроенного националистами, теряет мужа и детей, и весь фильм это, собственно, терзания женщины: мстить или не мстить за семью?
Мстить или не мстить – вот в чем вопрос. И 106 минут терзаний.
У героев же Пак Чхан-Ука этих терзаний нет, как и у героини «Признания» (книжка, кстати, вышла в 2008 году, а в 2010-м была с успехом экранизирована). У этих героев есть только одно размышление – о том, как же лучше осуществить задуманное, как сделать месть по-настоящему изощренной, сделать так, чтобы преступники ощутили те же муки, что их жертвы и их близкие.
(Идея отомстить миру любовью, как завещал классик, не принимается).
Я не хочу сказать, что один уклад лучше другого, речь не об этом, конечно, но интересным мне кажется то, что постепенно эта идея оправданности мести берет верх и в западном обществе, по крайней мере, в него прорастает. Это можно заметить по великому множеству фильмов и книг, в которых, допустим, женщины мстят мужчинам (и платят за абьюз и насилие – смертью), или, скажем, бедные так же кроваво мстят богатым за несправедливое устройство общества.
(Я сейчас не защищаю ни мужчин, ни богатых, если что, я, пожалуй, последний кто будет защищать укоренившееся неравенство любой масти).
Если захотеть, впрочем, идею оправданной мести можно увидеть и не только в кино и книжках, но и просто открыв ленту новостей.
Хорошо ли это? Не знаю. Я не уверен.
А книжка хорошая, да.
🔥19👍14❤8
Завтра в Аргентине второй тур президентских выборов. Как говорят журналисты (и сами кандидаты), это будут самые важные выборы за 40 лет существования аргентинской демократии. В принципе, с ними трудно не согласиться. Общество расколото примерно надвое, опросы показывают, что разрыв между кандидатами минимальный, 2-3 процента.
Напомню, выбирать Аргентина будет между двумя политиками: неудачным нынешним министром экономики Серхио Массой, очень левым, и очень правым Хавьером Милеем, который обещает много чего опасного: пересмотреть закон о разрешении абортов, упразднить Центральный банк и радикально, во всех сферах жизни сократить государственный сектор (направление мысли, может, и неплохое, но в нынешней экономической ситуации это опасно ужасным социальным взрывом). Была еще история о рынке органов и свободном ношении оружия, но под общественным давлением эти предложения из его речей исчезли (слава богу).
Впрочем, в экономике я понимаю не так много, будем честны, но вот что я знаю точно, так это то, что пересмотр отношения к диктатурам прошлого, на государственном уровне, ни к чем хорошему никогда не приводит. В этом смысле Милей, желающий «сделать Аргентину снова великой», очень опасен. Его кандидатка в вице-президенты, Виктория Вилларруэль, пожалуй, даже опаснее самого Милея. Она настаивает на том, что тезис о «30 000 жертв военной хунты» придуман, что жертв было куда меньше, да и вообще самые настоящие жертвы – это семьи военных, пострадавшие в результате терактов противников диктатуры.
В ходе одного из последних выступлений Вилларруэль заявила, что хочет закрыть ESMA, большой музей памяти, устроенный на территории бывшего полицейского отделения, где пытали и убивали людей. Она сказала, что такая большая территория в прекрасном районе города может послужить идеальным местом для отдыха. В ответ на это один пользователь ей хорошо написал: что-то я не помню, чтобы в Германии кто-то предлагал сделать рекреационную зону на территории какого-нибудь памятника жертвам нацистских преступлений. Вскользь Вилларруэль говорила и о том, что хочет пересмотреть обвинительные судебные решения, вынесенные против пособников хунты.
На фоне этого в общественных местах – в метро, например – за Серхио Массу стали активно агитировать родственники жертв диктатуры. В сети есть множество роликов, как дочери или жены убитых обращаются к людям, рассказывая свои истории, напоминая о главном лозунге последних сорока лет: nunca más, то есть никогда больше.
Nunca más вчера кричали в Театре Колон (местном Большом театре), куда пришел Хавьер Милей насладиться «Мадам Баттерфляй». Его освистали в перерыве между действиями, скандируя «Никогда больше» и «Милей, Мадуро – это диктатуры». Последний лозунг, кстати, довольно сомнительный, потому что Мадуро, мало кем признанный президент Венесуэлы, как раз друг нынешнего правительства Аргентины, то есть партии, к которой принадлежит не Хавьер Милей, а Серхио Масса. Хавьер Милей, напротив, хочет пересмотреть отношения с левыми правительствами региона (то есть примерно со всеми), и даже с Китаем. Он точно не друг Мадуро, но в пылу полемики и политической борьбы такие мелочи можно не заметить. Сторонники Массы не заметили и большого журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, что Масса потратил миллионы (сотни миллионов) долларов государственных денег на агитацию против Хавьера Милея.
И все же, смотря дебаты кандидатов в президенты, слушая их заключительные слова, читая журналистские материалы о том, что аргентинская демократия в опасности, я не мог не думать, что столь напряженная политическая жизнь – возможно, конечно, признак какого-то государственного кризиса, но еще это признак живого демократического процесса. Мне, а вернее, нам с вами, это может быть особенно хорошо понятно.
Напомню, выбирать Аргентина будет между двумя политиками: неудачным нынешним министром экономики Серхио Массой, очень левым, и очень правым Хавьером Милеем, который обещает много чего опасного: пересмотреть закон о разрешении абортов, упразднить Центральный банк и радикально, во всех сферах жизни сократить государственный сектор (направление мысли, может, и неплохое, но в нынешней экономической ситуации это опасно ужасным социальным взрывом). Была еще история о рынке органов и свободном ношении оружия, но под общественным давлением эти предложения из его речей исчезли (слава богу).
Впрочем, в экономике я понимаю не так много, будем честны, но вот что я знаю точно, так это то, что пересмотр отношения к диктатурам прошлого, на государственном уровне, ни к чем хорошему никогда не приводит. В этом смысле Милей, желающий «сделать Аргентину снова великой», очень опасен. Его кандидатка в вице-президенты, Виктория Вилларруэль, пожалуй, даже опаснее самого Милея. Она настаивает на том, что тезис о «30 000 жертв военной хунты» придуман, что жертв было куда меньше, да и вообще самые настоящие жертвы – это семьи военных, пострадавшие в результате терактов противников диктатуры.
В ходе одного из последних выступлений Вилларруэль заявила, что хочет закрыть ESMA, большой музей памяти, устроенный на территории бывшего полицейского отделения, где пытали и убивали людей. Она сказала, что такая большая территория в прекрасном районе города может послужить идеальным местом для отдыха. В ответ на это один пользователь ей хорошо написал: что-то я не помню, чтобы в Германии кто-то предлагал сделать рекреационную зону на территории какого-нибудь памятника жертвам нацистских преступлений. Вскользь Вилларруэль говорила и о том, что хочет пересмотреть обвинительные судебные решения, вынесенные против пособников хунты.
На фоне этого в общественных местах – в метро, например – за Серхио Массу стали активно агитировать родственники жертв диктатуры. В сети есть множество роликов, как дочери или жены убитых обращаются к людям, рассказывая свои истории, напоминая о главном лозунге последних сорока лет: nunca más, то есть никогда больше.
Nunca más вчера кричали в Театре Колон (местном Большом театре), куда пришел Хавьер Милей насладиться «Мадам Баттерфляй». Его освистали в перерыве между действиями, скандируя «Никогда больше» и «Милей, Мадуро – это диктатуры». Последний лозунг, кстати, довольно сомнительный, потому что Мадуро, мало кем признанный президент Венесуэлы, как раз друг нынешнего правительства Аргентины, то есть партии, к которой принадлежит не Хавьер Милей, а Серхио Масса. Хавьер Милей, напротив, хочет пересмотреть отношения с левыми правительствами региона (то есть примерно со всеми), и даже с Китаем. Он точно не друг Мадуро, но в пылу полемики и политической борьбы такие мелочи можно не заметить. Сторонники Массы не заметили и большого журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, что Масса потратил миллионы (сотни миллионов) долларов государственных денег на агитацию против Хавьера Милея.
И все же, смотря дебаты кандидатов в президенты, слушая их заключительные слова, читая журналистские материалы о том, что аргентинская демократия в опасности, я не мог не думать, что столь напряженная политическая жизнь – возможно, конечно, признак какого-то государственного кризиса, но еще это признак живого демократического процесса. Мне, а вернее, нам с вами, это может быть особенно хорошо понятно.
❤25👍7🤯3
Серхио Масса признал поражение на президентских выборах в Аргентине до объявления первых официальных результатов голосования.
Уверенная победа Хавьера Милея в Кордове и Мендосе (и соответствующих важнейших регионах страны) лишила Серхио Массу шансов обогнать конкурента. За окнами у меня кричат "Viva la libertad, carajo" - в президентском дворце Casa Rosada Милей окажется 10 декабря.
Что ж, пристегиваем ремни, надеемся, аргентинцы знают, что делают, а не выбрали от отчаяния из двух зол - большее. В конце концов, обещанные реформы Милею будет провести трудно, у него нет большинства в парламенте.
UPD Предварительные итоги голосования такие: Масса 44%, Милей 55%.
Уверенная победа Хавьера Милея в Кордове и Мендосе (и соответствующих важнейших регионах страны) лишила Серхио Массу шансов обогнать конкурента. За окнами у меня кричат "Viva la libertad, carajo" - в президентском дворце Casa Rosada Милей окажется 10 декабря.
Что ж, пристегиваем ремни, надеемся, аргентинцы знают, что делают, а не выбрали от отчаяния из двух зол - большее. В конце концов, обещанные реформы Милею будет провести трудно, у него нет большинства в парламенте.
UPD Предварительные итоги голосования такие: Масса 44%, Милей 55%.
😱14😢8💔2👍1
Ты же знаешь, счастье меня обходит стороной
Аннемари Шварценбах родилась в 1908 году в Цюрихе, в семье, родиться в которой многие бы сочли за счастье. Отец был богатым немецким промышленником, мать по женской линии происходила из рода фон Бисмарка. Девушка получила блестящее образование, в 23 года защитила докторскую диссертацию, занималась фотографией и литературой.
Впрочем, все хорошо не бывает. Аннемари была противницей национал-социалистов, а ее мать – большой поклонницей Гитлера. Аннемари влюблялась в женщин – среди прочего, в Эрику Манн, в которую вообще влюблялись, кажется, все – а мать, хоть и сама увлекалась представительницами своего пола, такое поведение не одобряла. По крайней мере, не одобряла, что дочь делала это не в тайне, а открыто. Все-таки нужно соблюдать какие-то приличия, правда?
Несколько раз Шварценбах посещала Москву, в том числе, в компании Клауса Манна, которому помогала издавать антифашистский журнал. Но, в отличие от значительной части западной интеллигенции, советский вариант диктатуры ее не смог очаровать. После одной из поездок в СССР она записала: «В России я никак не могла избавиться от чувства грусти и подавленности; во время ночных бесед, которые так любят русские, я поражалась их наивности, удивлялась их терпеливой обреченности, в том числе у молодых, по отношению к ограничениям и запретам со стороны советского режима. Бедный, задавленный народ матушки России!». Кстати, после ее отъезда многие из тех, с кем она общалась, были репрессированы.
Она вела не самый здоровый образ жизни, если говорить мягко, неудачно влюблялась, в Европе ей было неуютно, она не знала, что делать со своей жизнью, которую как будто смывали темные воды истории. Поэтому ее так притягивала Персия, синоним вечности. В Иране, который как раз модернизировался, она была несколько раз. Тамошние пейзажи казались ей нечеловеческими, в том смысле, что человек в этих песчаных скалистых пространствах выглядит незначительным, ненужным, избыточным. Там она влюбится в дочь турецкого посла, больную туберкулезом, там она будет находиться на грани смерти из-за лихорадки, из-за травмы ноги. Там она заключит фиктивный брак с дипломатом, которому этот союз был нужен примерно для того же, для чего и ей – чтобы все-таки скрыть от общественности свои предпочтения.
О путешествиях на Восток Аннемари напишет роман «Смерть в Персии». В переводе Виталия Серова он недавно вышел в издательстве Ad Marginem. Это поэтичный автобиографический текст, в котором, как можно догадаться, нет сюжета, но есть очень верно пойманное чувство собственной неприкаянности посреди близящейся мировой катастрофы, да и просто посреди слишком большого и слишком старого мира.
Роман она не допишет. В 1942 году она вернется в Швейцарию и во время одной из прогулок неудачно упадет с велосипеда, ударится головой. В больнице ей неправильно поставят диагноз, будет кома, будет лечение электрошоком. «15 ноября, она умерла в своем доме, в Зильсе. Мать Аннемари, Рене, запечатлела тело умершей дочери на фотопленке, а затем уничтожила всю ее корреспонденцию и дневники». Ей было 34 года.
Думаю, «Смерть в Персии» - актуальное чтение.
Аннемари Шварценбах родилась в 1908 году в Цюрихе, в семье, родиться в которой многие бы сочли за счастье. Отец был богатым немецким промышленником, мать по женской линии происходила из рода фон Бисмарка. Девушка получила блестящее образование, в 23 года защитила докторскую диссертацию, занималась фотографией и литературой.
Впрочем, все хорошо не бывает. Аннемари была противницей национал-социалистов, а ее мать – большой поклонницей Гитлера. Аннемари влюблялась в женщин – среди прочего, в Эрику Манн, в которую вообще влюблялись, кажется, все – а мать, хоть и сама увлекалась представительницами своего пола, такое поведение не одобряла. По крайней мере, не одобряла, что дочь делала это не в тайне, а открыто. Все-таки нужно соблюдать какие-то приличия, правда?
Несколько раз Шварценбах посещала Москву, в том числе, в компании Клауса Манна, которому помогала издавать антифашистский журнал. Но, в отличие от значительной части западной интеллигенции, советский вариант диктатуры ее не смог очаровать. После одной из поездок в СССР она записала: «В России я никак не могла избавиться от чувства грусти и подавленности; во время ночных бесед, которые так любят русские, я поражалась их наивности, удивлялась их терпеливой обреченности, в том числе у молодых, по отношению к ограничениям и запретам со стороны советского режима. Бедный, задавленный народ матушки России!». Кстати, после ее отъезда многие из тех, с кем она общалась, были репрессированы.
Она вела не самый здоровый образ жизни, если говорить мягко, неудачно влюблялась, в Европе ей было неуютно, она не знала, что делать со своей жизнью, которую как будто смывали темные воды истории. Поэтому ее так притягивала Персия, синоним вечности. В Иране, который как раз модернизировался, она была несколько раз. Тамошние пейзажи казались ей нечеловеческими, в том смысле, что человек в этих песчаных скалистых пространствах выглядит незначительным, ненужным, избыточным. Там она влюбится в дочь турецкого посла, больную туберкулезом, там она будет находиться на грани смерти из-за лихорадки, из-за травмы ноги. Там она заключит фиктивный брак с дипломатом, которому этот союз был нужен примерно для того же, для чего и ей – чтобы все-таки скрыть от общественности свои предпочтения.
О путешествиях на Восток Аннемари напишет роман «Смерть в Персии». В переводе Виталия Серова он недавно вышел в издательстве Ad Marginem. Это поэтичный автобиографический текст, в котором, как можно догадаться, нет сюжета, но есть очень верно пойманное чувство собственной неприкаянности посреди близящейся мировой катастрофы, да и просто посреди слишком большого и слишком старого мира.
Роман она не допишет. В 1942 году она вернется в Швейцарию и во время одной из прогулок неудачно упадет с велосипеда, ударится головой. В больнице ей неправильно поставят диагноз, будет кома, будет лечение электрошоком. «15 ноября, она умерла в своем доме, в Зильсе. Мать Аннемари, Рене, запечатлела тело умершей дочери на фотопленке, а затем уничтожила всю ее корреспонденцию и дневники». Ей было 34 года.
Думаю, «Смерть в Персии» - актуальное чтение.
💔28❤5🔥3
С моим колумбийским приятелем мы как-то вскользь говорили о религии («вскользь» это как раз мой текущий уровень языка ха-ха), и он, хоть ни в какие церкви не ходит, сказал, что главное наследство христианства в Южной Америке – это идеи любви и взаимопомощи. Меня это удивило, потому что человек он очень прогрессивных взглядов, во всех смыслах, а церковь у меня традиционно связана с консервативным дискурсом.
Так вот, недавно в НЛО вышла любопытная книга «Христианские левые» британского исследователя политической теории Энтони А. Дж. Уильямса. Я не так увлечен темой, чтобы читать ее целиком, но пару глав посмотрел – особенно внимательно, конечно, главу о Латинской Америке. Вообще, не устаю удивляться, какие разные выводы люди могут сделать из одной и той же книги – в данном случае, из Библии. Лишнее доказательство того, чточитаем мы жопой из точки А в точку Б любая мысль доходит не в лучшей форме.
Христианство сыграло важную роль в формировании того облика Северной и Южной Америки, который мы знаем сегодня. Скажем, в США, где колонизаторы были, в основном, протестантами, коренному населению пришлось значительно хуже, чем в той же Колумбии, колонизовали которую католики. Потому что в картине мира протестантов места коренным обитателям континента просто не было. Не то чтобы они их как-то специально ненавидели, а просто не понимали, что это вообще такое, люди ли это, если они живут вот так, как живут? Поэтому они сгоняли их с родных земель, создавали резервации и прочее, и прочее. То есть для коренного населения у протестантов не было (по большей части) плана «включения» в общество. Лучше бы просто эти индейцы куда-то исчезли да и все.
В случае с католиками ситуация иная. Католики хоть и считали коренных жителей ужасным ужасом, но предлагали им выход из этой истории – через крещение. Безусловно, по нынешним меркам это тоже чудовищно (ты должен отказаться от своей культуры, и прочее, и прочее), да и вообще все мы знаем историю колонизации, там довольно ужасов (особенно, кстати, на территории Чили и Аргентины), и все же. Если посмотреть на население все той же Колумбии, то легко можно заметить, как много там людей со смуглой кожей – именно потому, что индейцы постепенно смешивались с теми, кто приехал колонизовать континент. То есть некий путь для «социализации» людям предоставлялся.
Несмотря на это (а может, благодаря этому), в Южной Америке христианство долгое время считалось «религией господ» и религией богатых. Тем интереснее, что в середине XX века – и особенно ближе к концу 1960-х, после важнейшего Второго Ватиканского собора, реформировавшего католицизм – церковь в Латинской Америке сделала «выбор в пользу бедных». Латиноамериканские епископы на Медельинской конференции 1968 года заявили, что «не могут оставаться равнодушными перед лицом царящей в Латинской Америке огромной социальной несправедливости, которая держит большинство нашего населения в ужасающей бедности, зачастую превращающейся в нечеловеческую нищету».
Одним из важных доводов в пользу того, что церковь должна вмешаться, должна выступить на стороне обездоленных стала следующая идея: «Бедность – это скандальное состояние, несовместимое с человеческим достоинством и, следовательно, противоречащее воле Бога». В интерпретации мыслителей левого христианского течения в Латинской Америке, Царство Божие, конечно, ждет нас после смерти, но, вообще-то, неплохо было бы и реальность приблизить к состоянию всеобщего довольства.
На этом фоне, естественно, критиковался и капитализм, который интерпретировался (и интерпретируется до сих пор), как одна из версий колониализма, то есть экспансии. «Мы считаем, что растущий разрыв между богатыми и бедными скандален и противоречит сути христианства».
Так вот, недавно в НЛО вышла любопытная книга «Христианские левые» британского исследователя политической теории Энтони А. Дж. Уильямса. Я не так увлечен темой, чтобы читать ее целиком, но пару глав посмотрел – особенно внимательно, конечно, главу о Латинской Америке. Вообще, не устаю удивляться, какие разные выводы люди могут сделать из одной и той же книги – в данном случае, из Библии. Лишнее доказательство того, что
Христианство сыграло важную роль в формировании того облика Северной и Южной Америки, который мы знаем сегодня. Скажем, в США, где колонизаторы были, в основном, протестантами, коренному населению пришлось значительно хуже, чем в той же Колумбии, колонизовали которую католики. Потому что в картине мира протестантов места коренным обитателям континента просто не было. Не то чтобы они их как-то специально ненавидели, а просто не понимали, что это вообще такое, люди ли это, если они живут вот так, как живут? Поэтому они сгоняли их с родных земель, создавали резервации и прочее, и прочее. То есть для коренного населения у протестантов не было (по большей части) плана «включения» в общество. Лучше бы просто эти индейцы куда-то исчезли да и все.
В случае с католиками ситуация иная. Католики хоть и считали коренных жителей ужасным ужасом, но предлагали им выход из этой истории – через крещение. Безусловно, по нынешним меркам это тоже чудовищно (ты должен отказаться от своей культуры, и прочее, и прочее), да и вообще все мы знаем историю колонизации, там довольно ужасов (особенно, кстати, на территории Чили и Аргентины), и все же. Если посмотреть на население все той же Колумбии, то легко можно заметить, как много там людей со смуглой кожей – именно потому, что индейцы постепенно смешивались с теми, кто приехал колонизовать континент. То есть некий путь для «социализации» людям предоставлялся.
Несмотря на это (а может, благодаря этому), в Южной Америке христианство долгое время считалось «религией господ» и религией богатых. Тем интереснее, что в середине XX века – и особенно ближе к концу 1960-х, после важнейшего Второго Ватиканского собора, реформировавшего католицизм – церковь в Латинской Америке сделала «выбор в пользу бедных». Латиноамериканские епископы на Медельинской конференции 1968 года заявили, что «не могут оставаться равнодушными перед лицом царящей в Латинской Америке огромной социальной несправедливости, которая держит большинство нашего населения в ужасающей бедности, зачастую превращающейся в нечеловеческую нищету».
Одним из важных доводов в пользу того, что церковь должна вмешаться, должна выступить на стороне обездоленных стала следующая идея: «Бедность – это скандальное состояние, несовместимое с человеческим достоинством и, следовательно, противоречащее воле Бога». В интерпретации мыслителей левого христианского течения в Латинской Америке, Царство Божие, конечно, ждет нас после смерти, но, вообще-то, неплохо было бы и реальность приблизить к состоянию всеобщего довольства.
На этом фоне, естественно, критиковался и капитализм, который интерпретировался (и интерпретируется до сих пор), как одна из версий колониализма, то есть экспансии. «Мы считаем, что растущий разрыв между богатыми и бедными скандален и противоречит сути христианства».
👍10🔥6❤4
Все это в реальности обернулось появлением различных общественных движений – «Христиане за социализм» в Чили, например – и участии таких движений в политической жизни. Так, в том числе благодаря поддержке левых христиан к власти в Чили в 1970 году пришел Сальвадор Альенде, который позже был свергнут Пиночетом (не самым приятным парнем, чего уж скрывать). Здесь стоит сказать и о том, что представления многих латиноамериканцев о капитализме, как о некой кошмарной гидре, существуют не просто так – большинство диктатур на континенте пропагандировали идеи открытого рынка и капитализма, вместе с тем, терроризируя общество, мучая и убивая несогласных, без суда и следствия, но зато с большим удовольствием.
В годы военных диктатур священники помогали противникам режима – тайно, конечно, но военные хорошо знали, кто их враги. «В Латинской Америке 1964 по 1978 год был убит 41 священник, еще 11 пропали без вести, 485 были арестованы, 46 подверглись пыткам, а 253 оказались высланы из своих стран».
В годы военных диктатур священники помогали противникам режима – тайно, конечно, но военные хорошо знали, кто их враги. «В Латинской Америке 1964 по 1978 год был убит 41 священник, еще 11 пропали без вести, 485 были арестованы, 46 подверглись пыткам, а 253 оказались высланы из своих стран».
👍8❤5🤯2
Внезапно обсуждаем с подругой «Евгения Онегина» и, конечно, приходим к выводу, что по оценке этого текста можно судить о возрасте читающего. В юности мы непременно говорим – боже, как жаль, как жаль, ну почему Татьяна не с Онегиным, ах! Сегодня же мы сошлись на том, что наша героиня все же невероятно умна, она все совершенно правильно сделала. Как написала подруга: блин, Онегин, ко мне послы ходят, нас при дворе принимают, теперь мне есть с кем поговорить наконец-то!! Мой муж уважаемый человек, слава тебе господи, жизнь устроена, все хорошо, не видишь что ли? Сейчас я все брошу и побегу с тобой позориться на каждом углу, ага, конечно!!
❤29😁21🔥11