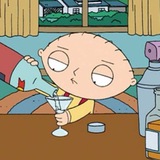Ух ты какая книжка из Аргентины выходит в "Самокате".
«Глаза хаски», Антонио Санта-Ана
Когда Эсекьелю поставили диагноз СПИД, он остался один, без семьи и друзей — те отвернулись от него. Его жизнь была полна презрительных взглядов и упреков. Единственное, что помогало ему справляться с болезнью, — это его пес хаски Сача, виолончель и внезапное появление младшего брата, давшего ему поддержку, принятие и любовь, в которых Эсекьель нуждался все эти годы.
Эта книга больше, чем история о юноше, который болеет СПИДом и воссоединяется со своим младшим братом. Это история, которая показывает важность доверия в семье и показывает, как все рушится, когда тебя не принимают.
Повесть аргентинского писателя Антонио Санта-Ана «Глаза хаски» вышла в 1998 году и стала классикой латиноамериканской молодежной литературы, пополнив списки внеклассного чтения в школьной программе. Книга стала бестселлером в Латинской Америке и продалась тиражом свыше 1 миллиона экземпляров.
Перевод Дарьи Синицыной.
«Глаза хаски», Антонио Санта-Ана
Когда Эсекьелю поставили диагноз СПИД, он остался один, без семьи и друзей — те отвернулись от него. Его жизнь была полна презрительных взглядов и упреков. Единственное, что помогало ему справляться с болезнью, — это его пес хаски Сача, виолончель и внезапное появление младшего брата, давшего ему поддержку, принятие и любовь, в которых Эсекьель нуждался все эти годы.
Эта книга больше, чем история о юноше, который болеет СПИДом и воссоединяется со своим младшим братом. Это история, которая показывает важность доверия в семье и показывает, как все рушится, когда тебя не принимают.
Повесть аргентинского писателя Антонио Санта-Ана «Глаза хаски» вышла в 1998 году и стала классикой латиноамериканской молодежной литературы, пополнив списки внеклассного чтения в школьной программе. Книга стала бестселлером в Латинской Америке и продалась тиражом свыше 1 миллиона экземпляров.
Перевод Дарьи Синицыной.
В блоге вышло сразу несколько интересных материалов о новых книгах «Дома историй», так что сделаю небольшой дайджест.
- О романе «Вода в озере никогда не бывает сладкой» итальянки Джулии Каминито, в котором героическая и жестокая мать тянет на себе семью, рассказывает Вера Богданова.
@wordsnletters
«Женская» модель семьи, показанная Каминито, будет поразительно знакома любому читателю на постсоветском пространстве. Антония, по сути, — мать-одиночка, взвалившая на свои плечи все, что можно было взвалить. У нее нет иного выбора, кроме как биться за самое необходимое: жилье, образование детей, небольшие пособия, работу, еду. Она не живет, а выживает, веря, что судьба детей уж точно сложится иначе. Но статистика говорит о другом: социальный успех детей при прочих равных во многом зависит от ресурсов родителей. Недостаточно просто учиться в престижной школе на хорошие оценки. Если ребенок растет в неблагополучной среде, шансы на его социальный провал стремительно увеличиваются. Определяет ли семья, в которой вы родились, ваше будущее? Джулия Каминито считает, что да.
От себя добавлю, что к роману стоит присмотреться всем, кто любит Элену Ферранте.
- О романе Кейт Сойер «Остов», в котором пара случайных знакомых переживает конец света, рассказывает Оля Птицева.
@pticeva
Концу света посвящена вторая сюжетная линия романа. В ней Рут и Ник — случайный знакомый, с которым она разделила момент конца света, — пытаются выжить в мире, усыпанном пеплом. В этом есть что-то от душераздирающей «Дороги» Кормака Маккарти. Но если там отец и сын идут к океану, пересекая мертвые земли, то Кейт Сойер предлагает своим героям остаться на берегу рядом с тушей погибшего кита. Вдали от выжженных городов, каннибалов, разбойников и радиоактивной пыли. Героев ожидает тяжелый труд и годы отшельничества.
Тут можно вспомнить «Станцию Одиннадцать», но, пожалуй, книга Эмили Сент-Джон Мандел все же более философская.
- Наконец, Лиза Биргер пишет о «Проекте „Джейн Остен“» Кэтлин Э. Флинн, в котором герои из будущего отправляются в XIX век на спасение утраченной рукописи Остен.
@birgotta
«Проект „Джейн Остен“» так убедителен именно потому, что не пытается играть в эпоху Регентства как фанфик. Вместо этого он сосредотачивается на самих героях. Что они испытывают, впервые пробуя настоящую, не из пробирок, еду, нанимая слуг, бродя по английским лугам. Как пахнет вечер в английской сельской местности или дымный туманный Лондон. Как вообще устроена жизнь, состоящая из прикосновений и чувств — и не в последнюю очередь из прикосновений к собственным чувствам.
Что тут добавить - это такой пир души для поклонников и Остен, и английской литературы вообще.
- А Дина Ключарева, переводчица «Проекта „Джейн Остен“», рассказывает в интервью о том, как работала над текстом.
@bookieblog
«Проект “Джейн Остен”» оказался одной из тех книг, что переводятся без особых проблем. Для меня это был, кажется, шестой роман с сеттингом в Англии XIX века, где я, как та бабуля из анекдота про Санта-Барбару, знаю всех. Костюмы, быт, традиции, речевые обороты — все это было привычным, гуглить почти не приходилось. Исключением стало только меню для званого ужина, который устраивает главная героиня. Среди блюд встретилось, например, нечто под названием «малыш-утопленник». Это, как выяснилось, была такая разновидность пудинга, который варили (да, настоящие британские пудинги варят, а не пекут!) запеленутым в тряпицу — отсюда и жуткое название.
- О романе «Вода в озере никогда не бывает сладкой» итальянки Джулии Каминито, в котором героическая и жестокая мать тянет на себе семью, рассказывает Вера Богданова.
@wordsnletters
«Женская» модель семьи, показанная Каминито, будет поразительно знакома любому читателю на постсоветском пространстве. Антония, по сути, — мать-одиночка, взвалившая на свои плечи все, что можно было взвалить. У нее нет иного выбора, кроме как биться за самое необходимое: жилье, образование детей, небольшие пособия, работу, еду. Она не живет, а выживает, веря, что судьба детей уж точно сложится иначе. Но статистика говорит о другом: социальный успех детей при прочих равных во многом зависит от ресурсов родителей. Недостаточно просто учиться в престижной школе на хорошие оценки. Если ребенок растет в неблагополучной среде, шансы на его социальный провал стремительно увеличиваются. Определяет ли семья, в которой вы родились, ваше будущее? Джулия Каминито считает, что да.
От себя добавлю, что к роману стоит присмотреться всем, кто любит Элену Ферранте.
- О романе Кейт Сойер «Остов», в котором пара случайных знакомых переживает конец света, рассказывает Оля Птицева.
@pticeva
Концу света посвящена вторая сюжетная линия романа. В ней Рут и Ник — случайный знакомый, с которым она разделила момент конца света, — пытаются выжить в мире, усыпанном пеплом. В этом есть что-то от душераздирающей «Дороги» Кормака Маккарти. Но если там отец и сын идут к океану, пересекая мертвые земли, то Кейт Сойер предлагает своим героям остаться на берегу рядом с тушей погибшего кита. Вдали от выжженных городов, каннибалов, разбойников и радиоактивной пыли. Героев ожидает тяжелый труд и годы отшельничества.
Тут можно вспомнить «Станцию Одиннадцать», но, пожалуй, книга Эмили Сент-Джон Мандел все же более философская.
- Наконец, Лиза Биргер пишет о «Проекте „Джейн Остен“» Кэтлин Э. Флинн, в котором герои из будущего отправляются в XIX век на спасение утраченной рукописи Остен.
@birgotta
«Проект „Джейн Остен“» так убедителен именно потому, что не пытается играть в эпоху Регентства как фанфик. Вместо этого он сосредотачивается на самих героях. Что они испытывают, впервые пробуя настоящую, не из пробирок, еду, нанимая слуг, бродя по английским лугам. Как пахнет вечер в английской сельской местности или дымный туманный Лондон. Как вообще устроена жизнь, состоящая из прикосновений и чувств — и не в последнюю очередь из прикосновений к собственным чувствам.
Что тут добавить - это такой пир души для поклонников и Остен, и английской литературы вообще.
- А Дина Ключарева, переводчица «Проекта „Джейн Остен“», рассказывает в интервью о том, как работала над текстом.
@bookieblog
«Проект “Джейн Остен”» оказался одной из тех книг, что переводятся без особых проблем. Для меня это был, кажется, шестой роман с сеттингом в Англии XIX века, где я, как та бабуля из анекдота про Санта-Барбару, знаю всех. Костюмы, быт, традиции, речевые обороты — все это было привычным, гуглить почти не приходилось. Исключением стало только меню для званого ужина, который устраивает главная героиня. Среди блюд встретилось, например, нечто под названием «малыш-утопленник». Это, как выяснилось, была такая разновидность пудинга, который варили (да, настоящие британские пудинги варят, а не пекут!) запеленутым в тряпицу — отсюда и жуткое название.
Благодаря Инне, которая всегда находит интересные места, побывал в небольшом, но очень красивом книжном – идеальном для неспешных бесед на отвлеченные темы, желательно под бокал чего-то приятного (благо, там наливают).
Среди прочего, наткнулся на роман, первые абзацы которого, кажется, в равной степени хороши на любом языке.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta.
Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su metro cuarenta y ocho de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita.
Среди прочего, наткнулся на роман, первые абзацы которого, кажется, в равной степени хороши на любом языке.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta.
Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su metro cuarenta y ocho de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
До выборов в Аргентине осталась неделя и, по данным последних опросов, против лома нет приема. Неолиберал Хавьер Милей не в первом, но во втором туре победит любого кандидата, с которым в него выйдет.
Время будет веселое, судя по всему, но надежда умирает последней. В попытке как-то остановить приход к власти человека, который хочет разрешить свободную продажу оружия (и органов), по ютубу часто крутят ролики не за какого-то кандидата, а против одного - то есть против Милея.
И хоть это ничему не поможет, само видео сделано хорошо, о чем и пишу. Слоган - тот, кто голосует, несет такую же ответственность, как и тот, кто нажимает на курок.
Время будет веселое, судя по всему, но надежда умирает последней. В попытке как-то остановить приход к власти человека, который хочет разрешить свободную продажу оружия (и органов), по ютубу часто крутят ролики не за какого-то кандидата, а против одного - то есть против Милея.
И хоть это ничему не поможет, само видео сделано хорошо, о чем и пишу. Слоган - тот, кто голосует, несет такую же ответственность, как и тот, кто нажимает на курок.
Писательница Ким Тхюи родилась в Сайгоне в 1968 году в благополучной семье, которая могла позволить себе кухарок и прислугу, где ценили искусство и красоту, а родители отлично говорили по-французски. Хотя в самом разгаре была война между коммунистическим Севером и буржуазным Югом, а заодно и между пресловутыми великими державами, Сайгон все еще оставался богатым городом. Но с его падением в 1975-м счастливая жизнь семьи Тхюи закончилась – к ним в дом стали подселять солдат из рабоче-крестьянской армии (как все похоже в разных странах), которые удивленно вытаскивали из гардеробов бюстгальтеры, не понимая, что это такое и зачем нужно.
Солдаты следили за семьей Ким Тхюи, но так и не уследили – они бежали в Малайзию, а оттуда, благодаря знанию французского, их забрали в Канаду. От былого достатка не осталось ничего, кроме драгоценностей, зашитых в одежду и запрятанных в акриловые браслеты (один такой браслет чудом переживет и бегство, и эмиграцию, и уже в Канаде его украдут, да воры выбросят браслет на помойку, не зная, что внутри спрятаны бриллианты, вот такая судьба). Об опыте эмиграции, о жизни в Канаде, о том, как на новом месте обустраивались тетушки и дядюшки, Ким Тхюи рассказывает в автобиографической повести «Ру».
Текст мало похож на повесть в привычном понимании – сюжет не развивается последовательно, история рассыпана на короткие главы, длиной в одну-две страницы, в которых писательница перемещается во времени, от детства во Вьетнаме до работы в Канаде в крупной международной фирме. Пожалуй, текст чем-то похож на роман «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» Оушена Вуонга, но все-таки Тхюи рассказывает о своем опыте более отстраненно и менее поэтично, как бы приняв все то, что случилось, имея все это в виду. Впрочем, общего у книг много – например, как и Вуонг, Тхюи часто обращается к особенностям вьетнамского языка, к словам, которые в нем есть и к их значению.
(До сих пор, кстати, помню отрывок из Вуонга, в котором он пишет, что во вьетнамском одно и то же слово означает «скучать» и «помнить», и, обращаясь к умершей матери, он пишет: Я скучаю по тебе больше, чем помню тебя).
Во вьетнамском языке любовь можно поделить на категории и пересчитать все ее термины: любить вкус (thích), любить не любя (thu’o’ng), влюбиться по уши (yêu), опьянеть от любви (mê), любить слепо (mù quáng), любить из благодарности (tình nghῖa). Невозможно просто любить, без головы тут никак.
Если в «Ру» война служит лишь неким толчком для всей повести, а затем отходит на задний план, то во втором тексте – «Эм» – она является ее неотъемлемой частью. История здесь так же рассыпается на короткие главы, однако на этот раз Ким Тхюи рассказывает не о себе, а о нескольких людях, переживших (или не переживших) войну. О беженцах, солдатах, сиротах. О том, как американцы пестицидами уничтожали все живое, как это сказывается на людях до сих пор – в виде болезней, высокой смертности – о том, как вьетнамцы безжалостно убивали американцев. О том, как вьетнамцы убивали вьетнамцев, не делая различий на солдат, женщин, детей. Меня поразил эпизод в книге, когда одна из героинь возвращается из Канады во Вьетнам, чтобы организовать спасение детей-«полукровок» (то есть тех, кто родился от связи американцев с вьетнамками, и потому был обречен в родной стране быть человеком не второго даже, а третьего сорта), и вот, когда она посадила первый «отряд» детей на самолет, он взлетел и тут же взорвался, и никто не спасся.
И все же. И все же самое удивительное в книге то, что писательнице сквозь эти катастрофы удается показать – жизнь рано или поздно победит, сочувствия достоин каждый и, да, преодолимо все, даже ненависть и боль.
(Книга «Ру. Эм» Ким Тхюи вышла в Polyandria NoAge).
@polyandria
Солдаты следили за семьей Ким Тхюи, но так и не уследили – они бежали в Малайзию, а оттуда, благодаря знанию французского, их забрали в Канаду. От былого достатка не осталось ничего, кроме драгоценностей, зашитых в одежду и запрятанных в акриловые браслеты (один такой браслет чудом переживет и бегство, и эмиграцию, и уже в Канаде его украдут, да воры выбросят браслет на помойку, не зная, что внутри спрятаны бриллианты, вот такая судьба). Об опыте эмиграции, о жизни в Канаде, о том, как на новом месте обустраивались тетушки и дядюшки, Ким Тхюи рассказывает в автобиографической повести «Ру».
Текст мало похож на повесть в привычном понимании – сюжет не развивается последовательно, история рассыпана на короткие главы, длиной в одну-две страницы, в которых писательница перемещается во времени, от детства во Вьетнаме до работы в Канаде в крупной международной фирме. Пожалуй, текст чем-то похож на роман «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» Оушена Вуонга, но все-таки Тхюи рассказывает о своем опыте более отстраненно и менее поэтично, как бы приняв все то, что случилось, имея все это в виду. Впрочем, общего у книг много – например, как и Вуонг, Тхюи часто обращается к особенностям вьетнамского языка, к словам, которые в нем есть и к их значению.
(До сих пор, кстати, помню отрывок из Вуонга, в котором он пишет, что во вьетнамском одно и то же слово означает «скучать» и «помнить», и, обращаясь к умершей матери, он пишет: Я скучаю по тебе больше, чем помню тебя).
Во вьетнамском языке любовь можно поделить на категории и пересчитать все ее термины: любить вкус (thích), любить не любя (thu’o’ng), влюбиться по уши (yêu), опьянеть от любви (mê), любить слепо (mù quáng), любить из благодарности (tình nghῖa). Невозможно просто любить, без головы тут никак.
Если в «Ру» война служит лишь неким толчком для всей повести, а затем отходит на задний план, то во втором тексте – «Эм» – она является ее неотъемлемой частью. История здесь так же рассыпается на короткие главы, однако на этот раз Ким Тхюи рассказывает не о себе, а о нескольких людях, переживших (или не переживших) войну. О беженцах, солдатах, сиротах. О том, как американцы пестицидами уничтожали все живое, как это сказывается на людях до сих пор – в виде болезней, высокой смертности – о том, как вьетнамцы безжалостно убивали американцев. О том, как вьетнамцы убивали вьетнамцев, не делая различий на солдат, женщин, детей. Меня поразил эпизод в книге, когда одна из героинь возвращается из Канады во Вьетнам, чтобы организовать спасение детей-«полукровок» (то есть тех, кто родился от связи американцев с вьетнамками, и потому был обречен в родной стране быть человеком не второго даже, а третьего сорта), и вот, когда она посадила первый «отряд» детей на самолет, он взлетел и тут же взорвался, и никто не спасся.
И все же. И все же самое удивительное в книге то, что писательнице сквозь эти катастрофы удается показать – жизнь рано или поздно победит, сочувствия достоин каждый и, да, преодолимо все, даже ненависть и боль.
(Книга «Ру. Эм» Ким Тхюи вышла в Polyandria NoAge).
@polyandria
А еще в блоге издательства есть отличное интервью с Ким Тхюи.
Я не очень хорошо овладела вьетнамским языком: знаю лишь базовые вещи, это язык, на котором я говорила дома в детстве. Поэтому когда я говорю на нем сейчас, я всё ещё говорю, как ребёнок. Я уехала из Вьетнама, когда мне было десять. Азиаты мало говорят об эмоциях — мы о них пишем, но не вербализуем эмоции друг другу. Я думаю, что люди начинают уметь определять эмоции только после десяти лет, поэтому все эти ощущения, чувства я могу определить только по-французски. Во вьетнамском языке я недостаточно хорошо владею нюансами. Например, я знаю слово «печаль», но не знаю «ностальгия» или «меланхолия». Наверняка есть так много слов, которые существуют только во вьетнамском, только в английском и только во французском языках. Я в постоянном разочаровании. Чувствую, что у меня нет языкового инструмента — нет возможности выразить всё, что я хочу выразить. Так и умру разочарованной.
Я не очень хорошо овладела вьетнамским языком: знаю лишь базовые вещи, это язык, на котором я говорила дома в детстве. Поэтому когда я говорю на нем сейчас, я всё ещё говорю, как ребёнок. Я уехала из Вьетнама, когда мне было десять. Азиаты мало говорят об эмоциях — мы о них пишем, но не вербализуем эмоции друг другу. Я думаю, что люди начинают уметь определять эмоции только после десяти лет, поэтому все эти ощущения, чувства я могу определить только по-французски. Во вьетнамском языке я недостаточно хорошо владею нюансами. Например, я знаю слово «печаль», но не знаю «ностальгия» или «меланхолия». Наверняка есть так много слов, которые существуют только во вьетнамском, только в английском и только во французском языках. Я в постоянном разочаровании. Чувствую, что у меня нет языкового инструмента — нет возможности выразить всё, что я хочу выразить. Так и умру разочарованной.
Очаровательную историю прочитал в огромном 800-страничном исследовании Дмитрия Цыганова «Сталинская премия по литературе», которое недавно вышло в НЛО.
На дворе стоял 1940 год, литераторы обсуждали, кого же наградить премией, и все очень нервничали, потому что речь шла о первой премии в истории, а значит, партия и сам Сталин будут рассматривать под микроскопом каждого лауреата и каждую запятую в отмеченных книжках.
Главным претендентом был последний том «Тихого Дона», и люди на «премиальном» заседании, конечно, восторгались талантом Шолохова, однако всех выступавших на обсуждении смущал несколько печальный финал книги – он был каким-то не слишком оптимистичным, а оптимизма требовала партийная линия, как-никак. Ну и Мелехов не очень вписывался в такой пейзаж.
«Любой человек прочтет и скажет: — Это произведение, равного которому трудно найти», – говорил Александр Фадеев о «Тихом Доне». Вместе с тем он оказался разочарован концовкой «Тихого Дона», обижен ею «в самых лучших советских чувствах».
(Ох уж эти лучшие советские чувства!)
Немирович-Данченко как бы в ответ на эти сожаления позднее сравнит печальный финал «Анны Карениной» с печальным финалом «Тихого Дона», по-видимому намекая, что не слишком радостная концовка сама по себе не портит текст по определению.
Фадеев ответит: «Но о гибели Анны Карениной мы можем сказать: посмотрите строй, который приводит к этому таких людей! Разве будущее поколение может сказать это о Григории Мелехове?»
Даже не знаю, что ответить на этот вопрос, но логика, по-моему, прекрасна.
На дворе стоял 1940 год, литераторы обсуждали, кого же наградить премией, и все очень нервничали, потому что речь шла о первой премии в истории, а значит, партия и сам Сталин будут рассматривать под микроскопом каждого лауреата и каждую запятую в отмеченных книжках.
Главным претендентом был последний том «Тихого Дона», и люди на «премиальном» заседании, конечно, восторгались талантом Шолохова, однако всех выступавших на обсуждении смущал несколько печальный финал книги – он был каким-то не слишком оптимистичным, а оптимизма требовала партийная линия, как-никак. Ну и Мелехов не очень вписывался в такой пейзаж.
«Любой человек прочтет и скажет: — Это произведение, равного которому трудно найти», – говорил Александр Фадеев о «Тихом Доне». Вместе с тем он оказался разочарован концовкой «Тихого Дона», обижен ею «в самых лучших советских чувствах».
(Ох уж эти лучшие советские чувства!)
Немирович-Данченко как бы в ответ на эти сожаления позднее сравнит печальный финал «Анны Карениной» с печальным финалом «Тихого Дона», по-видимому намекая, что не слишком радостная концовка сама по себе не портит текст по определению.
Фадеев ответит: «Но о гибели Анны Карениной мы можем сказать: посмотрите строй, который приводит к этому таких людей! Разве будущее поколение может сказать это о Григории Мелехове?»
Даже не знаю, что ответить на этот вопрос, но логика, по-моему, прекрасна.
Еще один прелюбопытный отрывок из книги Дмитрия Цыганова «Сталинская премия по литературе» — о том, как должна была выглядеть литературная «дружба народов» по мнению советских чиновников, и как переводчики «помогали» авторам из разных республик потерять индивидуальность.
***
Если в 1930-е работа с национальными авторами в основном проходила «на местах» — в республиканских отделениях Союза писателей, то после войны происходит очевидная централизация. Отныне всеми вопросами развития «литератур братских народов» занимается «руководящий центр». <…>
На издательство «Советский писатель» <была> возложена почетная задача — систематически знакомить читателя с произведениями современной русской литературы и лучшими явлениями литератур братских республик. <…>
Однако не стоит забывать, что параллельно с этим в республиках проходила кампания по искоренению националистических настроений или, попросту говоря, шел процесс «оскопления» национальной идентичности с целью редукции ментальных различий между членами «единой семьи народов». Советская литература, таким образом, должна была представлять собой нейтральную сферу, в пространстве которой языковые, эстетические, национальные и даже сугубо текстуальные расхождения подвергались бы максимальной редукции. Если же республиканский автор, писавший на национальном языке, не мог самостоятельно преодолеть этот рубеж и влиться в эту нейтральную сферу советской литературы, то на помощь ему приходили переводчики. Они и приводили текст к нужному состоянию, почти полностью устраняя из него черты индивидуально-авторского стиля (поэтому перевод романов В. Василевской с польского или В. Лациса с латышского в языковом и стилистическом отношениях ничем не отличается от романов М. Бубеннова или Ф. Панферова).
***
Если в 1930-е работа с национальными авторами в основном проходила «на местах» — в республиканских отделениях Союза писателей, то после войны происходит очевидная централизация. Отныне всеми вопросами развития «литератур братских народов» занимается «руководящий центр». <…>
На издательство «Советский писатель» <была> возложена почетная задача — систематически знакомить читателя с произведениями современной русской литературы и лучшими явлениями литератур братских республик. <…>
Однако не стоит забывать, что параллельно с этим в республиках проходила кампания по искоренению националистических настроений или, попросту говоря, шел процесс «оскопления» национальной идентичности с целью редукции ментальных различий между членами «единой семьи народов». Советская литература, таким образом, должна была представлять собой нейтральную сферу, в пространстве которой языковые, эстетические, национальные и даже сугубо текстуальные расхождения подвергались бы максимальной редукции. Если же республиканский автор, писавший на национальном языке, не мог самостоятельно преодолеть этот рубеж и влиться в эту нейтральную сферу советской литературы, то на помощь ему приходили переводчики. Они и приводили текст к нужному состоянию, почти полностью устраняя из него черты индивидуально-авторского стиля (поэтому перевод романов В. Василевской с польского или В. Лациса с латышского в языковом и стилистическом отношениях ничем не отличается от романов М. Бубеннова или Ф. Панферова).
Не могу отделаться от мысли, что большая часть управленцев в России – в государственных структура, в бизнесе, да где угодно – уроки управления брали у Сталина.
***
В тот раз я сидел рядом с редактором «Звезды» Друзиным, сидел довольно далеко от Сталина, в конце стола. Уже прошла и поэзия, и проза, и драматургия, как вдруг Сталин, взяв из лежавшей слева от него пачки какой-то журнал, перегнутый пополам, очевидно, открытый на интересовавшей его странице, спросил присутствующих:
— Кто читал пьесу «Вороний камень», авторы Груздев и Четвериков?
Все молчали, никто из нас пьесы «Вороний камень» не читал.
— Она была напечатана в сорок четвертом году в журнале «Звезда», — сказал Сталин. — Я думаю, что это хорошая пьеса. В свое время на нее не обратили внимания, но я думаю, следует дать премию товарищам Груздеву и Четверикову за эту хорошую пьесу. Какие будут еще мнения?
По духу, который сопутствовал этим обсуждениям на Политбюро, вопрос Сталина: «Какие будут еще мнения?» — предполагал, что иных мнений быть не может, но в данном случае их действительно не предполагалось, поскольку стало ясно, что никто, кроме него самого, пьесу не читал. Последовала пауза. В это время Друзин, лихорадочно тряхнув меня за локоть, прошептал мне в ухо:
— Что делать? Она была напечатана у нас в «Звезде», но Четвериков арестован, сидит. Как, сказать или промолчать?
— Конечно, сказать, — прошептал я в ответ Друзину, подумав про себя, что если Друзин скажет, то Сталин, наверное, освободит автора понравившейся ему пьесы. Чего ему стоит это сделать? А если Друзин промолчит сейчас, ему дорого это обойдется потом — то, что он знал и не сказал.
— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени? — выдержав паузу, неторопливо сказал Сталин. — Я думаю…
Тут Друзин, решившись, наконец решившись, выпалил почти с отчаянием, очень громко:
— Он сидит, товарищ Сталин.
— Кто сидит? — не понял Сталин.
— Один из двух авторов пьесы, Четвериков сидит, товарищ Сталин.
Сталин помолчал, повертел в руках журнал, закрыл и положил его обратно, продолжая молчать. Мне показалось, что он несколько секунд колебался — как поступить, и, решив это для себя совсем не так, как я надеялся, заглянул в список премий и сказал:
— Переходим к литературной критике. За книгу «Глинка»…
***
(Из обсуждение романа «Кружилиха» Веры Пановой, который сильно критиковали партийцы и литераторы).
Кто-то из присутствующих стал критиковать «Кружилиху» за то, как выведен в ней предзавкома Уздечкин.
— Ну, что ж, — сказал Сталин. — Уздечкины у нас еще есть.
Жданов подал реплику, что Уздечкин — один из тех, в ком особенно явен разлад между бытием и сознанием.
— Один из многих и многих, — сказал Сталин. — Вот все критикуют Панову за то, что у людей в ее романе нет единства между личным и общественным, критикуют за этот конфликт. А разве это так просто в жизни решается, так просто сочетается? Бывает, что и не сочетается, — Сталин помолчал и, ставя точку в споре о «Кружилихе», сказал про Панову: — Люди у нее показаны правдиво.
***
В тот раз я сидел рядом с редактором «Звезды» Друзиным, сидел довольно далеко от Сталина, в конце стола. Уже прошла и поэзия, и проза, и драматургия, как вдруг Сталин, взяв из лежавшей слева от него пачки какой-то журнал, перегнутый пополам, очевидно, открытый на интересовавшей его странице, спросил присутствующих:
— Кто читал пьесу «Вороний камень», авторы Груздев и Четвериков?
Все молчали, никто из нас пьесы «Вороний камень» не читал.
— Она была напечатана в сорок четвертом году в журнале «Звезда», — сказал Сталин. — Я думаю, что это хорошая пьеса. В свое время на нее не обратили внимания, но я думаю, следует дать премию товарищам Груздеву и Четверикову за эту хорошую пьесу. Какие будут еще мнения?
По духу, который сопутствовал этим обсуждениям на Политбюро, вопрос Сталина: «Какие будут еще мнения?» — предполагал, что иных мнений быть не может, но в данном случае их действительно не предполагалось, поскольку стало ясно, что никто, кроме него самого, пьесу не читал. Последовала пауза. В это время Друзин, лихорадочно тряхнув меня за локоть, прошептал мне в ухо:
— Что делать? Она была напечатана у нас в «Звезде», но Четвериков арестован, сидит. Как, сказать или промолчать?
— Конечно, сказать, — прошептал я в ответ Друзину, подумав про себя, что если Друзин скажет, то Сталин, наверное, освободит автора понравившейся ему пьесы. Чего ему стоит это сделать? А если Друзин промолчит сейчас, ему дорого это обойдется потом — то, что он знал и не сказал.
— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени? — выдержав паузу, неторопливо сказал Сталин. — Я думаю…
Тут Друзин, решившись, наконец решившись, выпалил почти с отчаянием, очень громко:
— Он сидит, товарищ Сталин.
— Кто сидит? — не понял Сталин.
— Один из двух авторов пьесы, Четвериков сидит, товарищ Сталин.
Сталин помолчал, повертел в руках журнал, закрыл и положил его обратно, продолжая молчать. Мне показалось, что он несколько секунд колебался — как поступить, и, решив это для себя совсем не так, как я надеялся, заглянул в список премий и сказал:
— Переходим к литературной критике. За книгу «Глинка»…
***
(Из обсуждение романа «Кружилиха» Веры Пановой, который сильно критиковали партийцы и литераторы).
Кто-то из присутствующих стал критиковать «Кружилиху» за то, как выведен в ней предзавкома Уздечкин.
— Ну, что ж, — сказал Сталин. — Уздечкины у нас еще есть.
Жданов подал реплику, что Уздечкин — один из тех, в ком особенно явен разлад между бытием и сознанием.
— Один из многих и многих, — сказал Сталин. — Вот все критикуют Панову за то, что у людей в ее романе нет единства между личным и общественным, критикуют за этот конфликт. А разве это так просто в жизни решается, так просто сочетается? Бывает, что и не сочетается, — Сталин помолчал и, ставя точку в споре о «Кружилихе», сказал про Панову: — Люди у нее показаны правдиво.
Следует, наверное, сказать, что вчера в Аргентине прошел первый тур выборов президента, раз уж я об этом периодически пишу.
По итогам голосования, во второй тур проходит нынешний министр экономики, кандидат от партии власти, Серхио Масса (36,6%), и кандидат-неолибертарианец Хавьер Милей (30%). Кандидат от умеренно правой оппозиции, местная Маргарет Тэтчер на минималках, Патрисия Буллрич набрала 23% голосов и поэтому из гонки выбывает.
Результаты голосования снова всех удивили, как и результаты августовских «предвыборов». Тогда шоком стало, что Милей с его идеей долларизации экономики, отмены местного Центрального Банка, либерализации продажи оружия и т.д. обошел всех конкурентов, хотя его считали то ли шутом, то ли безумцем. Теперь же удивлением стал провал умеренной оппозиции и мощный рывок левого министра экономики вперед.
Вместе с тем, в моих лентах социальных сетей многие аргентинцы пребывают в растерянности – выбор в ноябре будет между кандидатами, которые практически полные противоположности друг друга, а главное, счастливое будущее Аргентины вряд ли может обеспечить хоть кто-то из них. Один предлагает все оставить, как есть, а другой отчаянно хочет это «все» поменять.
Хавьер Милей – фанат Трампа и Болсонару, планирует отменить вхождение Аргентины в БРИКС, порвать отношения с Бразилией и Китаем (с кем будет торговать при этом – непонятно), кардинально снизить государственные расходы, на бесплатное образование, медицину и прочее, и прочее. Эдакая шоковая терапия, только с либерализацией продажи оружия (ну такое, увы).
Серхио Масса – представитель киршнеризма, той части элиты, которая сделала много хорошего для Аргентины с точки зрения прав, но вместе с тем довела страну до трехзначной инфляции, и останавливаться на этих достижениях министр экономики явно не собирается. Чтобы сплотить ряды сторонников, аккурат перед выборами он раздавал государственные деньги направо и налево, отменял налоги (а откуда брать деньги, Зин?), обещал не платить кредит МВФ и хвастался тем, что новые деньги он нашел – взял кредит в Китае (ха-ха, жди вышибал, приятель). Внятного плана по борьбе с инфляцией у него нет, да и зачем бы он нужен.
В общем, нет счастья на земле, и нет его в аргентинских кандидатах в президенты.
Впрочем, что мне нравится, так это то, что люди – сторонники совершенно разных кандидатов в президенты – прямо на моих глазах совершенно спокойно сказали о несогласии с выбором друг друга, стоя в очереди в магазине, и никто не подрался. Это немного обнадеживает.
По итогам голосования, во второй тур проходит нынешний министр экономики, кандидат от партии власти, Серхио Масса (36,6%), и кандидат-неолибертарианец Хавьер Милей (30%). Кандидат от умеренно правой оппозиции, местная Маргарет Тэтчер на минималках, Патрисия Буллрич набрала 23% голосов и поэтому из гонки выбывает.
Результаты голосования снова всех удивили, как и результаты августовских «предвыборов». Тогда шоком стало, что Милей с его идеей долларизации экономики, отмены местного Центрального Банка, либерализации продажи оружия и т.д. обошел всех конкурентов, хотя его считали то ли шутом, то ли безумцем. Теперь же удивлением стал провал умеренной оппозиции и мощный рывок левого министра экономики вперед.
Вместе с тем, в моих лентах социальных сетей многие аргентинцы пребывают в растерянности – выбор в ноябре будет между кандидатами, которые практически полные противоположности друг друга, а главное, счастливое будущее Аргентины вряд ли может обеспечить хоть кто-то из них. Один предлагает все оставить, как есть, а другой отчаянно хочет это «все» поменять.
Хавьер Милей – фанат Трампа и Болсонару, планирует отменить вхождение Аргентины в БРИКС, порвать отношения с Бразилией и Китаем (с кем будет торговать при этом – непонятно), кардинально снизить государственные расходы, на бесплатное образование, медицину и прочее, и прочее. Эдакая шоковая терапия, только с либерализацией продажи оружия (ну такое, увы).
Серхио Масса – представитель киршнеризма, той части элиты, которая сделала много хорошего для Аргентины с точки зрения прав, но вместе с тем довела страну до трехзначной инфляции, и останавливаться на этих достижениях министр экономики явно не собирается. Чтобы сплотить ряды сторонников, аккурат перед выборами он раздавал государственные деньги направо и налево, отменял налоги (а откуда брать деньги, Зин?), обещал не платить кредит МВФ и хвастался тем, что новые деньги он нашел – взял кредит в Китае (ха-ха, жди вышибал, приятель). Внятного плана по борьбе с инфляцией у него нет, да и зачем бы он нужен.
В общем, нет счастья на земле, и нет его в аргентинских кандидатах в президенты.
Впрочем, что мне нравится, так это то, что люди – сторонники совершенно разных кандидатов в президенты – прямо на моих глазах совершенно спокойно сказали о несогласии с выбором друг друга, стоя в очереди в магазине, и никто не подрался. Это немного обнадеживает.
Вышел большой материал о латиноамериканской литературе, который я довольно долго готовил. Внутри несколько десятков тысяч знаков о том, что сегодня представляет собой литература региона, в котором когда-то появился магический реализм.
Прекрасная переводчица Маша Малинская (которая, к сожалению, до сих пор не завела телеграм-канал), рассказывает о значимых тенденциях и именах, а коллеги из разных издательств - о том, кого и как они сегодня издают в России, и что думают о будущем латиноамериканской литературы.
В отзывах нередко встречаю критику: что это за книга, зря бумагу переводят, вот то ли дело Маркес. Такой подход мне, честно говоря, кажется обидным и непродуктивным. Нисколько не принижая Маркеса, хочу сказать, что и в современной латиноамериканской литературе масса всего интересного, и его проще разглядеть, если не использовать Маркеса как универсальный референс и мерило всех вещей.
Прекрасная переводчица Маша Малинская (которая, к сожалению, до сих пор не завела телеграм-канал), рассказывает о значимых тенденциях и именах, а коллеги из разных издательств - о том, кого и как они сегодня издают в России, и что думают о будущем латиноамериканской литературы.
В отзывах нередко встречаю критику: что это за книга, зря бумагу переводят, вот то ли дело Маркес. Такой подход мне, честно говоря, кажется обидным и непродуктивным. Нисколько не принижая Маркеса, хочу сказать, что и в современной латиноамериканской литературе масса всего интересного, и его проще разглядеть, если не использовать Маркеса как универсальный референс и мерило всех вещей.
Ну и еще пара слов к разговору о материале.
Во-первых, в "Доме историй" совсем скоро выходит роман "Элена знает" важной аргентинской писательницы Клаудии Пиньейро, как раз в переводе Маши. Это книга о женщине, живущей с болезнью Паркинсона: она пытается разобраться в причинах смерти дочери, хотя, кажется, только ей и есть до этого дело.
Во-вторых, лично я добавил в свой виш-лист роман с красивейшим названием «Мне страшно, тореро» Педро Ламбеля (правда, придется подождать, когда я смогу читать его в оригинале, так как перевода на русский сейчас нет, да и вряд ли будет). Роман о любви "старого травести" (“travesti vieja”) к партизану в эпоху Пиночета, кстати, уже экранизировали.
В-третьих, обязательно надо, чтобы кто-то перевел уругвайскую писательницу Кристину Пери-Росси.
Интересно, что Пери-Росси — заметная фигура эпохи бума — в России совсем неизвестна и не издавалась; получается, что на русском у бума исключительно мужское лицо. Мне у Пери-Росси нравятся стихи и сборник рассказов «Отдельные комнаты», отмеченный премией имени Варгаса Льосы. В аннотации говорится, что если бы инопланетянин приземлился в большом городе, эта книга дала бы ему представление о том, чем живут люди: работа, секс, усталость, одиночество, семейные и личные драмы – всё это описывается живо, с иронией и неожиданными сюжетными поворотами. Мужчина грабит магазин и выкидывает всё награбленное из окна; отец семейства внезапно узнает, что девушка сына, с которой ему предстоит познакомиться за ужином, – это его собственная брошенная любовница; женщина-психиатр в больнице лечит странную пациентку от депрессии и суицидальных мыслей – и в ходе терапии сама постепенно проникается бессмысленностью жизни. Сейчас имя Пери-Росси часто появляется в испаноязычной прессе и критике: в 2021 году она получила престижную премию Сервантеса.
Во-первых, в "Доме историй" совсем скоро выходит роман "Элена знает" важной аргентинской писательницы Клаудии Пиньейро, как раз в переводе Маши. Это книга о женщине, живущей с болезнью Паркинсона: она пытается разобраться в причинах смерти дочери, хотя, кажется, только ей и есть до этого дело.
Во-вторых, лично я добавил в свой виш-лист роман с красивейшим названием «Мне страшно, тореро» Педро Ламбеля (правда, придется подождать, когда я смогу читать его в оригинале, так как перевода на русский сейчас нет, да и вряд ли будет). Роман о любви "старого травести" (“travesti vieja”) к партизану в эпоху Пиночета, кстати, уже экранизировали.
В-третьих, обязательно надо, чтобы кто-то перевел уругвайскую писательницу Кристину Пери-Росси.
Интересно, что Пери-Росси — заметная фигура эпохи бума — в России совсем неизвестна и не издавалась; получается, что на русском у бума исключительно мужское лицо. Мне у Пери-Росси нравятся стихи и сборник рассказов «Отдельные комнаты», отмеченный премией имени Варгаса Льосы. В аннотации говорится, что если бы инопланетянин приземлился в большом городе, эта книга дала бы ему представление о том, чем живут люди: работа, секс, усталость, одиночество, семейные и личные драмы – всё это описывается живо, с иронией и неожиданными сюжетными поворотами. Мужчина грабит магазин и выкидывает всё награбленное из окна; отец семейства внезапно узнает, что девушка сына, с которой ему предстоит познакомиться за ужином, – это его собственная брошенная любовница; женщина-психиатр в больнице лечит странную пациентку от депрессии и суицидальных мыслей – и в ходе терапии сама постепенно проникается бессмысленностью жизни. Сейчас имя Пери-Росси часто появляется в испаноязычной прессе и критике: в 2021 году она получила престижную премию Сервантеса.