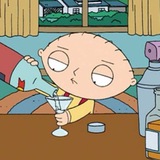Послушал неновый, но довольно популярный мелодраматический детектив, который пару лет назад выходил в Inspiria – роман «Виновен» Канаэ Минато, о чьей другой книжке («Признания») я писал какое-то время назад.
Вообще, хоть в России сперва опубликовали «Виновного», а лишь затем «Признания», в реальности хронология обратная – «Признания» были дебютом Минато. Я это даже несколько раз перепроверил – просто потому, что с точки зрения авторского мастерства более ранняя книга на голову выше последующего текста, а так в жанровой литературе бывает не то чтобы всегда. «Виновен» – роман, вызывающий противоречивые чувства: несколько раз меня от него так укачивало, что сознание просто покидало тело, не желая больше во всем этом процессе участвовать.
Главное действующее лицо – застенчивый парень, который примерно каждое свое действие проговаривает про себя и очень много (даже по моим меркам) рефлексирует и думает, а что же скажет баба маня из соседнего подъезда и еще вот та девушка за стойкой бара.
(Дальше будет спойлер, без которого не могу рассказать о книге).
В школе у нашего героя был лучший друг (единственный по совместительству), и вот как-то вместе с этим другом и еще парой приятелей они вдруг неожиданно поехали в загородный домик одного из парней. А дорога туда вела узкая, сплошной серпантин, да, к тому же, уже после того, как ребята доехали и выпили, надо было вернуться назад встретить отбившегося от группки товарища. И поехал сделать это именно что лучший друг нашего героя – потому что был он очень добрым безотказным парнем. Понятное дело, добряк в итоге попал в аварию и погиб почем зря. С этого события проходит какое-то время, и каждый из тех, кто был той ночью в уютном доме, получает записку: ты – убийца. Ну и тут и начинается детективная линия – главный герой пытается разобраться, кто такой умный, кто шлет эти записки.
(Здесь могло бы быть лирическое отступление о разнице культур – мол, сложно себе представить, что в России назовут убийцами тех, кто не достаточно сильно уговаривал выпившего человека не садиться за руль, не связавших его по рукам и ногам, но этого лирического отступления не будет).
Помимо того, что даже мне еще с середины книги стало ясно, кто отправил все эти записки (а я ну предельно туп на детективные линии, вот прямо максимально – пока мне не скажут в лицо, что всех убил дворецкий, я никогда не сложу два плюс два), повествование еще и чрезвычайно перенасыщено деталями. То есть – это вообще черта конкретно японских авторов, они любят описывать повседневную жизнь, все эти милые ненужности вроде «герой встал, подошел к столу, взял чайник – ручка была прохладной – развел кипятком свой зернистый нескафе, отчего пошел приятный аромат». Я очень люблю все это, искренне, но в данном случае Минато прямо как будто задалась целью описать вообще каждое движение героя, знаете, как в старой сценке Петросяна: бабушка достала сумочку, открыла сумочку, достала кошелек, открыла кошелек, достала монетку, закрыла кошелек, убрала его в сумочку, закрыла сумочку. Потом она поняла, что недостаточно монеток достала, и все повторяется заново, ну и так далее, и в том же духе. А еще посреди всего этого у героя есть вечные мысли о подмыслях, и на этом моменте я просто уплываю в сон, на паузу можно не ставить, так как это работает как АСМР, а может, даже лучше.
Но.
Но все-таки книгу хотелось дослушать до конца. И хотелось по одной причине – Минато очень здорово показала процесс тоскования по бесконечно дорогому тебе человеку. Главный герой едет в город, где провел большую часть жизни его друг, и начинает по разговорам с теми, кто его знал, воссоздавать его характер, его быт, его историю. Он ведет дневник памяти друга для того, чтобы зафиксировать, как-то удержать хоть что-то о человеке, которого уже нет и никогда больше не будет на свете. И эта попытка остановить рябь на воде, облако в небе, дымок от костра – метафор может быть много – так понятна и так честна, что искупает для меня все остальное в этом прихрамывающем сентиментальном детективе.
#книги
Вообще, хоть в России сперва опубликовали «Виновного», а лишь затем «Признания», в реальности хронология обратная – «Признания» были дебютом Минато. Я это даже несколько раз перепроверил – просто потому, что с точки зрения авторского мастерства более ранняя книга на голову выше последующего текста, а так в жанровой литературе бывает не то чтобы всегда. «Виновен» – роман, вызывающий противоречивые чувства: несколько раз меня от него так укачивало, что сознание просто покидало тело, не желая больше во всем этом процессе участвовать.
Главное действующее лицо – застенчивый парень, который примерно каждое свое действие проговаривает про себя и очень много (даже по моим меркам) рефлексирует и думает, а что же скажет баба маня из соседнего подъезда и еще вот та девушка за стойкой бара.
(Дальше будет спойлер, без которого не могу рассказать о книге).
В школе у нашего героя был лучший друг (единственный по совместительству), и вот как-то вместе с этим другом и еще парой приятелей они вдруг неожиданно поехали в загородный домик одного из парней. А дорога туда вела узкая, сплошной серпантин, да, к тому же, уже после того, как ребята доехали и выпили, надо было вернуться назад встретить отбившегося от группки товарища. И поехал сделать это именно что лучший друг нашего героя – потому что был он очень добрым безотказным парнем. Понятное дело, добряк в итоге попал в аварию и погиб почем зря. С этого события проходит какое-то время, и каждый из тех, кто был той ночью в уютном доме, получает записку: ты – убийца. Ну и тут и начинается детективная линия – главный герой пытается разобраться, кто такой умный, кто шлет эти записки.
(Здесь могло бы быть лирическое отступление о разнице культур – мол, сложно себе представить, что в России назовут убийцами тех, кто не достаточно сильно уговаривал выпившего человека не садиться за руль, не связавших его по рукам и ногам, но этого лирического отступления не будет).
Помимо того, что даже мне еще с середины книги стало ясно, кто отправил все эти записки (а я ну предельно туп на детективные линии, вот прямо максимально – пока мне не скажут в лицо, что всех убил дворецкий, я никогда не сложу два плюс два), повествование еще и чрезвычайно перенасыщено деталями. То есть – это вообще черта конкретно японских авторов, они любят описывать повседневную жизнь, все эти милые ненужности вроде «герой встал, подошел к столу, взял чайник – ручка была прохладной – развел кипятком свой зернистый нескафе, отчего пошел приятный аромат». Я очень люблю все это, искренне, но в данном случае Минато прямо как будто задалась целью описать вообще каждое движение героя, знаете, как в старой сценке Петросяна: бабушка достала сумочку, открыла сумочку, достала кошелек, открыла кошелек, достала монетку, закрыла кошелек, убрала его в сумочку, закрыла сумочку. Потом она поняла, что недостаточно монеток достала, и все повторяется заново, ну и так далее, и в том же духе. А еще посреди всего этого у героя есть вечные мысли о подмыслях, и на этом моменте я просто уплываю в сон, на паузу можно не ставить, так как это работает как АСМР, а может, даже лучше.
Но.
Но все-таки книгу хотелось дослушать до конца. И хотелось по одной причине – Минато очень здорово показала процесс тоскования по бесконечно дорогому тебе человеку. Главный герой едет в город, где провел большую часть жизни его друг, и начинает по разговорам с теми, кто его знал, воссоздавать его характер, его быт, его историю. Он ведет дневник памяти друга для того, чтобы зафиксировать, как-то удержать хоть что-то о человеке, которого уже нет и никогда больше не будет на свете. И эта попытка остановить рябь на воде, облако в небе, дымок от костра – метафор может быть много – так понятна и так честна, что искупает для меня все остальное в этом прихрамывающем сентиментальном детективе.
#книги
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Если вы не знаете, что посмотреть воскресным вечером, то у меня есть для вас отличная рекомендация – аргентинский фильм «Короли интриги», кино совершенно европейского качества.
(Миша, спасибо за совет!)
По сюжету, в роскошный, но ветшающий особняк пожилой кинодивы приезжают бойкие риелторы, желающие прибрать к рукам собственность звезды. И она почти попадает в их сети, но тут в дело вступает ее свита, которой палец в рот не клади, и становится непонятно, кто из этих хитрых соперников выйдет победителем, и чья кровь прольется в финале.
Остроумное кино с классными диалогами и хорошими актерскими работами – под бокал чего-нибудь приятного ровно то, что доктор прописал.
(Создатель фильма, кстати, Хуан Хосе Кампанелья – один из самых титулованных аргентинских режиссеров, автор «Тайны в его глазах», очень важной местной картины, получившей в 2010 году «Оскар» как Лучший фильм на иностранном языке).
#кино
#аргентина
(Миша, спасибо за совет!)
По сюжету, в роскошный, но ветшающий особняк пожилой кинодивы приезжают бойкие риелторы, желающие прибрать к рукам собственность звезды. И она почти попадает в их сети, но тут в дело вступает ее свита, которой палец в рот не клади, и становится непонятно, кто из этих хитрых соперников выйдет победителем, и чья кровь прольется в финале.
Остроумное кино с классными диалогами и хорошими актерскими работами – под бокал чего-нибудь приятного ровно то, что доктор прописал.
(Создатель фильма, кстати, Хуан Хосе Кампанелья – один из самых титулованных аргентинских режиссеров, автор «Тайны в его глазах», очень важной местной картины, получившей в 2010 году «Оскар» как Лучший фильм на иностранном языке).
#кино
#аргентина
Ну и еще одна рекомендация из мира аргентинского кино. Сериал «Управляющий» (или El encargado) – один из тех проектов, за которые можно засесть вечером, а очнуться утром, кликая на последнюю серию. Не буду заниматься анализом – тем более, это отлично сделала подруга в своем канале – а просто скажу несколько слов о сюжете.
Главный герой – Элисео, опытный управляющий элитного дома в Буэнос-Айресе. Должность эта очень важная в Аргентине – это не просто консьерж: такой человек буквально «душа дома». Он отвечает за то, чтобы все работы проводились в срок (ведь тут нет «Жилищника», к сожалению) чтобы не нарушались установленные порядки, и так далее, и тому подобное.
Однако при всем том, должность эта сегодня скорее уходящая натура. И вот инициативная группа жильцов элитного дома решила избавиться от Элисео – а вместо его домика на крыше (тоже популярная местная тема) построить бассейн. Ну и заменить управляющего на клининговый сервис (ох, как бездушно!).
И все бы у них должно получиться, только Элисео отказывается сдаваться. Он – эдакий Остап Бендер и Чичиков в одном флаконе, ловкий манипулятор и авантюрист, одержимый, при этом, своей должностью. Он знает, что для утверждения строительства бассейна «за» должно проголосовать большинство совета жильцов дома – и за их-то голоса он вступает в схватку. И той самой «инициативной группе» лучше на пути у него не стоять.
Сериал классный – ироничный и живой. Не успел закончиться второй сезон, как его продлили на третий, и правильно сделали. Желаю приятного просмотра – и завидую вам со страшной силой.
#кино
#аргентина
Главный герой – Элисео, опытный управляющий элитного дома в Буэнос-Айресе. Должность эта очень важная в Аргентине – это не просто консьерж: такой человек буквально «душа дома». Он отвечает за то, чтобы все работы проводились в срок (ведь тут нет «Жилищника», к сожалению) чтобы не нарушались установленные порядки, и так далее, и тому подобное.
Однако при всем том, должность эта сегодня скорее уходящая натура. И вот инициативная группа жильцов элитного дома решила избавиться от Элисео – а вместо его домика на крыше (тоже популярная местная тема) построить бассейн. Ну и заменить управляющего на клининговый сервис (ох, как бездушно!).
И все бы у них должно получиться, только Элисео отказывается сдаваться. Он – эдакий Остап Бендер и Чичиков в одном флаконе, ловкий манипулятор и авантюрист, одержимый, при этом, своей должностью. Он знает, что для утверждения строительства бассейна «за» должно проголосовать большинство совета жильцов дома – и за их-то голоса он вступает в схватку. И той самой «инициативной группе» лучше на пути у него не стоять.
Сериал классный – ироничный и живой. Не успел закончиться второй сезон, как его продлили на третий, и правильно сделали. Желаю приятного просмотра – и завидую вам со страшной силой.
#кино
#аргентина
Недавно я читал книгу «Ру. Эм» Ким Тхюи о последствиях вьетнамской войны, и так вышло, что за короткий срок послушал еще один роман на ту же тему.
«Блуждающие души» Сесиль Пин (Inspiria) – это история о трех вьетнамских беженцах, девушке Ань и двух ее младших братьях, Мине и Тхане. Они жили в деревне неподалеку от Южного Вьетнама, и после поражения правительства отец семейства решил, что им надо уехать из страны. Семья разделилась на две части – первыми до Гонконга должны были добраться как раз герои нашего романа, а вслед за ними планировала отправиться другая часть семейства. Однако когда Ань, Тхань и Минь оказались в лагере для беженцев, выяснилось, что их родные погибли во время морской переправы. Так шестнадцатилетняя Ань стала опекуном братьев. Она пошла работать на местную ткацкую фабрику в ожидании решения ООН в какую страну их отправить дальше – где они найдут новый дом? В итоге им было уготовано поехать в Великобританию времен Тэтчер и, как легко догадаться, это был не самый лучший период для начала жизни азиатских беженцев в старой доброй Англии.
Отличий у двух книг – «Ру. Эм» и «Блуждающие души» – много. В первом случае героиня романа происходила из довольно богатой семьи, да и переехать в Канаду в итоге удалось всем ее близким родственникам. Во втором же случае речь идет об и так незащищенных людях, и им нечего было с собой взять, никаких драгоценностей не зашить в одежду. Они в буквальном смысле начинали жизнь с чистого листа – с абсолютного нуля, вернее, даже с отрицательного значения, ведь и английского никто из детей толком не знал, когда им выпало отправиться в Лондон. И если в «Ру. Эм» мы не видим самого процесса укоренения беженцев в новой стране, это скорее сборник поэтических зарисовок, размышлений о своей судьбе, то в «Блуждающих душах», напротив, нет почти никакой лирики – только рассказ о повседневной трудной жизни, о ранних подъемах на работу, о том, что не все мечты сбываются, как бы ты ни старался, хоть бейся головой об лед.
Однако при этом в обеих книгах тут и там разбросаны вкрапления новостных сводок времен Вьетнамской войны, важные сведения о том, какими немыслимыми и опасными путями люди бежали из родной страны. Эта прямая речь истории появляется там, где автор понимает, что никакой художественный рассказ не сможет оказать большего воздействия на читателя, чем изложение фактов. О том, как пираты грабили суда беженцев, как они выдирали золотые зубы у стариков, как насиловали и убивали. Как Маргарет Тэтчер не хотела принимать людей из Вьетнама, потому что предпочла бы кого-то побелее, из какой-то более христианской страны.
Помимо этих вставок в романе есть короткие главы «от лица» души одного из младших детей семейства Ань, также погибшего в море. Его тело, как и тела других членов семьи, похоронили в Гонконге, а согласно вьетнамским традициям души тех, кто похоронен так далеко от дома, где никто из родственников не может их навещать, блуждают по миру. Этот прием, кстати, уже как-то использовала писательница Хан Ган в своих «Человеческих поступках» – книге о жестоко подавленном студенческом восстании в Южной Корее на рубеже 1970-1980-х годов.
Ближе к концу книги возникает голос альтер-эго автора – писательницы, работающей над книгой о своей матери, покинувшей Вьетнам. Так в тексте появляются отсылки к «Илиаде», к Джоан Дидион, делая рассказ более публицистическим – благодаря этому художественная история как бы становится реальнее, осязаемее. Это удачный ход.
#книги
«Блуждающие души» Сесиль Пин (Inspiria) – это история о трех вьетнамских беженцах, девушке Ань и двух ее младших братьях, Мине и Тхане. Они жили в деревне неподалеку от Южного Вьетнама, и после поражения правительства отец семейства решил, что им надо уехать из страны. Семья разделилась на две части – первыми до Гонконга должны были добраться как раз герои нашего романа, а вслед за ними планировала отправиться другая часть семейства. Однако когда Ань, Тхань и Минь оказались в лагере для беженцев, выяснилось, что их родные погибли во время морской переправы. Так шестнадцатилетняя Ань стала опекуном братьев. Она пошла работать на местную ткацкую фабрику в ожидании решения ООН в какую страну их отправить дальше – где они найдут новый дом? В итоге им было уготовано поехать в Великобританию времен Тэтчер и, как легко догадаться, это был не самый лучший период для начала жизни азиатских беженцев в старой доброй Англии.
Отличий у двух книг – «Ру. Эм» и «Блуждающие души» – много. В первом случае героиня романа происходила из довольно богатой семьи, да и переехать в Канаду в итоге удалось всем ее близким родственникам. Во втором же случае речь идет об и так незащищенных людях, и им нечего было с собой взять, никаких драгоценностей не зашить в одежду. Они в буквальном смысле начинали жизнь с чистого листа – с абсолютного нуля, вернее, даже с отрицательного значения, ведь и английского никто из детей толком не знал, когда им выпало отправиться в Лондон. И если в «Ру. Эм» мы не видим самого процесса укоренения беженцев в новой стране, это скорее сборник поэтических зарисовок, размышлений о своей судьбе, то в «Блуждающих душах», напротив, нет почти никакой лирики – только рассказ о повседневной трудной жизни, о ранних подъемах на работу, о том, что не все мечты сбываются, как бы ты ни старался, хоть бейся головой об лед.
Однако при этом в обеих книгах тут и там разбросаны вкрапления новостных сводок времен Вьетнамской войны, важные сведения о том, какими немыслимыми и опасными путями люди бежали из родной страны. Эта прямая речь истории появляется там, где автор понимает, что никакой художественный рассказ не сможет оказать большего воздействия на читателя, чем изложение фактов. О том, как пираты грабили суда беженцев, как они выдирали золотые зубы у стариков, как насиловали и убивали. Как Маргарет Тэтчер не хотела принимать людей из Вьетнама, потому что предпочла бы кого-то побелее, из какой-то более христианской страны.
Помимо этих вставок в романе есть короткие главы «от лица» души одного из младших детей семейства Ань, также погибшего в море. Его тело, как и тела других членов семьи, похоронили в Гонконге, а согласно вьетнамским традициям души тех, кто похоронен так далеко от дома, где никто из родственников не может их навещать, блуждают по миру. Этот прием, кстати, уже как-то использовала писательница Хан Ган в своих «Человеческих поступках» – книге о жестоко подавленном студенческом восстании в Южной Корее на рубеже 1970-1980-х годов.
Ближе к концу книги возникает голос альтер-эго автора – писательницы, работающей над книгой о своей матери, покинувшей Вьетнам. Так в тексте появляются отсылки к «Илиаде», к Джоан Дидион, делая рассказ более публицистическим – благодаря этому художественная история как бы становится реальнее, осязаемее. Это удачный ход.
#книги
Сама идея романа о беженцах, написанного человеком, связанным с этой темой (мать француженки Сесиль Пин – вьетнамка) как бы обязывает текст иметь если не счастливый конец, то хотя бы воодушевляющий. (Как-то сейчас выпало из головы – есть ли романы о том, как беженство главному герою не удалось? Впрочем, если оно не удалось, то кому же об этом опыте писать). Так вот, у Сесиль Пин получилось найти довольно тонкую грань между обнадеживающим финалом – и реальностью. Пожалуй, это отсутствие в конце неба в алмазах – одно из главных достоинств книги. Как и то, что герои романа – наглядное доказательство того, что жизненная трагедия навсегда запечатлевается в сердце, как бы хорошо потом твоя судьба ни сложилась.
Прочитал у Сережи пост с пересказом статьи из Vox, общий смысл которой примерно в том, что писатель сегодня должен быть сам себе маркетологом и супервездой, а еще лучше всем вместе и можно без хлеба, чтобы добиться какого-то успеха.
Ну и там много всякого веселого типа популярными в соцсетях становятся и без того популярные авторы и исполнители, а продвигающие сами себя в тиктоке и инстаграме писатели и художники зарабатывают выгорание и депрессию — потому что их заставляют вместо собственно творчества заниматься хуйней всякой, чтобы на них хотя бы обратили внимание.
Добавлю от себя, что в одних странах писателю нужны деньги на хорошего маркетолога, а в других – на умного политконсультанта, чтобы тот сказал, как так написать свой роман, чтобы и интересно было, и государство оказалось бы довольно или хотя бы не в обиде.
Впрочем, это не все имеющиеся варианты для ограничения писательских амбиций – я вот на досуге изучал азиатские книжные каталоги, читал, так сказать, о писательских судьбах, и вот один кейс мне запомнился. Есть такой тайваньский автор Тинг-Куо Ван, и вот он в юности писал книги, получал за них даже премии, а потом решил жениться, а отец невесты ему и говорит: дружочек, твои книжки это конечно мило, но ты мужчина, так что должен содержать семью. Поэтому я дам согласие на ваш брак только при условии, что ты перестанешь заниматься ерундой, то есть этой твоей литературой.
И вот этот Тинг-Куо Ван забросил писательство, женился, построил бизнес, прожил жизнь приличного тайваньского гражданина, заработал много денег, а потом вышел на пенсию и снова стал писателем, а газеты анонсировали его первый после затишья роман фразой «после 40 летнего перерыва знаменитый писатель возвращается в литературу».
Здесь, кстати, замечу, что в Азии писательниц сейчас тоже куда больше чем писателей, как и во всем мире, полагаю, и часто из биографий женщин можно понять, что она либо из довольно богатой семьи, либо замужем за довольно состоятельным мужчиной. Традиционность азиатских обществ дает о себе знать – если ты успеваешь следить за бытом, можешь и книжки свои писать (если ты удачливая женщина с прогрессивным партнером!), а вот если ты мужчина, даже из богатой семьи, то будь добр все же подумать о вечном, то есть о семейном капитале.
(Я вот помню, как моя научная руководительница примерно то же самое мне сказала, когда я хотел идти в аспирантуру филологическую: молодой человек, ну господь с вами, зачем оно вам нужно – вам еще семью содержать. Надо сказать, очень признателен ей за совет, а то сейчас бы доедал последнюю корку без масла, и это в лучшем случае).
В принципе, это вечный вопрос – где оскорбленному писательскому сердцу найти уголок и в какой стране автору жить хорошо. Пока что, на мой взгляд, идеальным вариантом для автора остается найти себеайтишника партнера, который будет работать за двоих, пока ты мило занимаешься такой необязательной вещью, в сущности, как литература – то есть переливанием из пустого в порожнее, раскладыванием вишенок на торте, выведением иероглифов дымом на воздухе.
Ну и там много всякого веселого типа популярными в соцсетях становятся и без того популярные авторы и исполнители, а продвигающие сами себя в тиктоке и инстаграме писатели и художники зарабатывают выгорание и депрессию — потому что их заставляют вместо собственно творчества заниматься хуйней всякой, чтобы на них хотя бы обратили внимание.
Добавлю от себя, что в одних странах писателю нужны деньги на хорошего маркетолога, а в других – на умного политконсультанта, чтобы тот сказал, как так написать свой роман, чтобы и интересно было, и государство оказалось бы довольно или хотя бы не в обиде.
Впрочем, это не все имеющиеся варианты для ограничения писательских амбиций – я вот на досуге изучал азиатские книжные каталоги, читал, так сказать, о писательских судьбах, и вот один кейс мне запомнился. Есть такой тайваньский автор Тинг-Куо Ван, и вот он в юности писал книги, получал за них даже премии, а потом решил жениться, а отец невесты ему и говорит: дружочек, твои книжки это конечно мило, но ты мужчина, так что должен содержать семью. Поэтому я дам согласие на ваш брак только при условии, что ты перестанешь заниматься ерундой, то есть этой твоей литературой.
И вот этот Тинг-Куо Ван забросил писательство, женился, построил бизнес, прожил жизнь приличного тайваньского гражданина, заработал много денег, а потом вышел на пенсию и снова стал писателем, а газеты анонсировали его первый после затишья роман фразой «после 40 летнего перерыва знаменитый писатель возвращается в литературу».
Здесь, кстати, замечу, что в Азии писательниц сейчас тоже куда больше чем писателей, как и во всем мире, полагаю, и часто из биографий женщин можно понять, что она либо из довольно богатой семьи, либо замужем за довольно состоятельным мужчиной. Традиционность азиатских обществ дает о себе знать – если ты успеваешь следить за бытом, можешь и книжки свои писать (если ты удачливая женщина с прогрессивным партнером!), а вот если ты мужчина, даже из богатой семьи, то будь добр все же подумать о вечном, то есть о семейном капитале.
(Я вот помню, как моя научная руководительница примерно то же самое мне сказала, когда я хотел идти в аспирантуру филологическую: молодой человек, ну господь с вами, зачем оно вам нужно – вам еще семью содержать. Надо сказать, очень признателен ей за совет, а то сейчас бы доедал последнюю корку без масла, и это в лучшем случае).
В принципе, это вечный вопрос – где оскорбленному писательскому сердцу найти уголок и в какой стране автору жить хорошо. Пока что, на мой взгляд, идеальным вариантом для автора остается найти себе
Недавно все выкладывали фотографии 21-летних себя, я же делать этого не буду, хотя что-то такое наверняка найдется в памяти телефона. Но должно быть в этом какое-то удовольствие – разглядывать себя такого прошлого, а у меня подобного удовольствия нет. Дело, конечно, не в том, что я себе не нравился тогда или не нравлюсь сейчас, но для меня это просто странно – осознавать, что вот прошло 12 лет, представляешь, как говорится, а ты и не знал.
Я часто думаю, что просто не понимаю, откуда люди, у которых с собой чуть больше двух чемоданов багажа, берут силы писать. Книги, рассказы, да хотя бы эссе. Ладно, чего уж, более или менее осмысленные посты. Завидую – мне кажется, у таких людей опыт как бы разложен по полочкам: вот здесь стоит любовный опыт, посмотрите, а здесь его сухой остаток, выжимка, как бумажка в печенье с предсказанием: мудаков – остерегайся.
(Запомним).
И так во всем, в каждой сфере жизни.
И если это так, то опыт становится для тебя каким-то ценным (ну или хотя бы удобным) инструментом, чтобы анализировать то, что происходит с тобой сейчас. Чтобы делать выводы, строить гипотезы, расчерчивать планы. Я всегда полагал, что много рефлексирую, а рефлексия, в общем, как раз и существует, чтобы помогать наводить порядок, выпаривать смысл из происходящего, а иначе зачем бы она нужна, такая трата времени. Но, как и во многом другом, я, безусловно, ошибался – моя рефлексия бесполезна, она не приводит ни к каким выводам, кроме вот того, что я только что написал. И поэтому мой опыт – это не каталог, который приятно брать в руки, выстроенный в алфавитном порядке, не библиотека с карточками, а просто какие-то случайные вещи, разбросанные по комнате. Без каких-либо связей, без системы – вот валяется футболка, носок, а там вырванная страница из почему-то календаря.
А когда так, то опыт не помогает (думать связно), по крайней мере, о себе. О других думать всегда как-то проще, а о книгах и еще легче, они сами тебе дают слова, а ты их просто складываешь в предложения. Очень удобно. Но я бы даже уточнил – опыт в таком виде не то что не помогает, а мешает. Любая мало-мальски стоящая идея тает, как глыба льда, стоит на нее посмотреть через призму всего, что с тобой случилось. И вот нет уже ни глыбы, ни льда, только лужица воды, и все.
Я думаю, что если бы однажды мог встретить себя 21-летнего, то никаких советов я бы себе давать не стал (слава богу, на что-то еще хватает мозга), да и разговор бы не получился. Ну вот разве что я бы спросил – отчасти как бы забыв, отчасти ради приличия – вот и скажи мне, ты хотя бы там счастлив, радуешься иногда? И это был бы глупый вопрос, потому что ответ-то я знаю, и он, в отличие от многих вещей, неизменен.
Я часто думаю, что просто не понимаю, откуда люди, у которых с собой чуть больше двух чемоданов багажа, берут силы писать. Книги, рассказы, да хотя бы эссе. Ладно, чего уж, более или менее осмысленные посты. Завидую – мне кажется, у таких людей опыт как бы разложен по полочкам: вот здесь стоит любовный опыт, посмотрите, а здесь его сухой остаток, выжимка, как бумажка в печенье с предсказанием: мудаков – остерегайся.
(Запомним).
И так во всем, в каждой сфере жизни.
И если это так, то опыт становится для тебя каким-то ценным (ну или хотя бы удобным) инструментом, чтобы анализировать то, что происходит с тобой сейчас. Чтобы делать выводы, строить гипотезы, расчерчивать планы. Я всегда полагал, что много рефлексирую, а рефлексия, в общем, как раз и существует, чтобы помогать наводить порядок, выпаривать смысл из происходящего, а иначе зачем бы она нужна, такая трата времени. Но, как и во многом другом, я, безусловно, ошибался – моя рефлексия бесполезна, она не приводит ни к каким выводам, кроме вот того, что я только что написал. И поэтому мой опыт – это не каталог, который приятно брать в руки, выстроенный в алфавитном порядке, не библиотека с карточками, а просто какие-то случайные вещи, разбросанные по комнате. Без каких-либо связей, без системы – вот валяется футболка, носок, а там вырванная страница из почему-то календаря.
А когда так, то опыт не помогает (думать связно), по крайней мере, о себе. О других думать всегда как-то проще, а о книгах и еще легче, они сами тебе дают слова, а ты их просто складываешь в предложения. Очень удобно. Но я бы даже уточнил – опыт в таком виде не то что не помогает, а мешает. Любая мало-мальски стоящая идея тает, как глыба льда, стоит на нее посмотреть через призму всего, что с тобой случилось. И вот нет уже ни глыбы, ни льда, только лужица воды, и все.
Я думаю, что если бы однажды мог встретить себя 21-летнего, то никаких советов я бы себе давать не стал (слава богу, на что-то еще хватает мозга), да и разговор бы не получился. Ну вот разве что я бы спросил – отчасти как бы забыв, отчасти ради приличия – вот и скажи мне, ты хотя бы там счастлив, радуешься иногда? И это был бы глупый вопрос, потому что ответ-то я знаю, и он, в отличие от многих вещей, неизменен.
(История о том, как я едва не потерял зрение: начало)
Я понимаю, что сейчас не лучшее время рассказывать грустные истории и просить о помощи, но жизнь сама решает, когда поставить тебя в трудную ситуацию.
Итак, последний месяц был самым трудным периодом за все мои 33 года, и этот период, увы, пока не закончился. 8 января я вдруг понял, что при повороте правого глаза в любую сторону, вижу странные вспышки света. Не так давно я рассказывал, что глаза – это мое больное место: зрение у меня начало падать в 4 года, в 8 лет мне впервые сделали лазерную пайку сетчатки, и после этого дважды в год я наблюдался у одного и того же офтальмолога в Москве. Было еще 2 операции и много-много лазера. Моя сетчатка выглядит примерно как рубашка бедняка – вся в заплатках.
Во вторник, когда вспышки прошли, но появилась «плавающая паутнинка» по всему полю зрения, я пошел в отделение срочной помощи одного из офтальмологических центров (назовем его N1 для простоты рассказа), так как в клинике, где я наблюдаюсь с глазами регулярно, нет такой службы, и записываться туда надо за пару месяцев.
Мне проверили зрение, сказали, что переживать не стоит, это отслойка стекловидного тела. Обычно такое происходит у людей за 40, но с учетом всех моих проблем, процесс начался раньше. И пусть, ничего страшного – надо почаще наблюдаться, ну а вообще в течение пары месяцев все само рассосется.
К четвергу плавающих паутинок стало больше, и я, хоть и чувствовал себя ипохондриком 100 уровня, пошел в другой офтальмологический центр (N2), где также есть отделение срочной помощи. Там мне сказали примерно то же, что я уже знал, и отпустили с богом. Продолжая чувствовать себя полусумасшедшим, в пятницу я написал своему московскому врачу, рассказал о симптомах и получил тот же ответ: не волнуйтесь, если нет разрывов сетчатки, все само пройдет через пару месяцев.
(Но ничего не прошло, как вы догадываетесь).
В субботу вечером я понял, что у меня пропала часть бокового зрения – в левом нижнем углу появилось слепое пятно. В принципе, что-то похожее у меня было: я чудо природы, и помимо миопии у меня бывают приступы глазной мигрень, а ее симптомы примерно вот такие – временное выпадение какой-то части обзора. И хоть я пытался себе объяснить, что это все мигрень, в итоге мы в ночи все же поехали вновь в клинику N1.
На этот раз мне сделали все возможные исследования, и тут, наверное, случилось то самое недопонимание между мной и врачом из-за, во-первых, моего несовершенного испанского, и, во-вторых, из-за разного «культурного кода» (простите). Она сказала, что обсудит мои дела завтра с главным врачом, и дальше по ситуации оставит в больнице направления на анализы, какие-то капли, вы приедете за ними (вдруг пригодятся), а уже в понедельник этот самый главный врач вас посмотрит и скажет, что надо делать – лазер, операцию, или что еще.
Все это было сказано как бы без тревоги, без слов – бегите срочно сдавайте анализы, лучше уж подготовиться к операции, чем потом терять время на ерунду, потому что времени у вас не будет. И вообще двигайтесь меньше и просто сидите на диване, когда можете, ведь каждое ваше движение приводит к отрыву сетчатки. Всего этого мне не сказали, и среди ее потока слов термин «отслоение сетчатки» я так и не распознал (тем более, что для этого здесь есть разные обозначения, и я, блин, ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ИХ ВСЕ).
Продолжая оставаться в частичном неведении, в воскресенье я поехал сперва за направлениями, а потом по настоянию Инны (важное замечание: без Инны и Сережи эта история не имела бы шансов на хэппи-энд), мы пошли в бесплатную офтальмологическую срочную помощь, на всякий случай. К этому времени слепое пятно справа стало разрастаться, я впадал в тревожную кому. Окулист в госбольнице через секунду после начала осмотра практически с возмущением сказала – да чего вы, блин, ходите, у вас отслойка сетчатки, алло! Бывает, что стекловидное тело цепляется за сетчатку, тянет за собой и рвет ее. У вас есть всего пара дней, чтобы сделать операцию, а потом будет поздно – зрение не вернете, время здесь самое важное.
Ну и тут началась наша гонка.
Я понимаю, что сейчас не лучшее время рассказывать грустные истории и просить о помощи, но жизнь сама решает, когда поставить тебя в трудную ситуацию.
Итак, последний месяц был самым трудным периодом за все мои 33 года, и этот период, увы, пока не закончился. 8 января я вдруг понял, что при повороте правого глаза в любую сторону, вижу странные вспышки света. Не так давно я рассказывал, что глаза – это мое больное место: зрение у меня начало падать в 4 года, в 8 лет мне впервые сделали лазерную пайку сетчатки, и после этого дважды в год я наблюдался у одного и того же офтальмолога в Москве. Было еще 2 операции и много-много лазера. Моя сетчатка выглядит примерно как рубашка бедняка – вся в заплатках.
Во вторник, когда вспышки прошли, но появилась «плавающая паутнинка» по всему полю зрения, я пошел в отделение срочной помощи одного из офтальмологических центров (назовем его N1 для простоты рассказа), так как в клинике, где я наблюдаюсь с глазами регулярно, нет такой службы, и записываться туда надо за пару месяцев.
Мне проверили зрение, сказали, что переживать не стоит, это отслойка стекловидного тела. Обычно такое происходит у людей за 40, но с учетом всех моих проблем, процесс начался раньше. И пусть, ничего страшного – надо почаще наблюдаться, ну а вообще в течение пары месяцев все само рассосется.
К четвергу плавающих паутинок стало больше, и я, хоть и чувствовал себя ипохондриком 100 уровня, пошел в другой офтальмологический центр (N2), где также есть отделение срочной помощи. Там мне сказали примерно то же, что я уже знал, и отпустили с богом. Продолжая чувствовать себя полусумасшедшим, в пятницу я написал своему московскому врачу, рассказал о симптомах и получил тот же ответ: не волнуйтесь, если нет разрывов сетчатки, все само пройдет через пару месяцев.
(Но ничего не прошло, как вы догадываетесь).
В субботу вечером я понял, что у меня пропала часть бокового зрения – в левом нижнем углу появилось слепое пятно. В принципе, что-то похожее у меня было: я чудо природы, и помимо миопии у меня бывают приступы глазной мигрень, а ее симптомы примерно вот такие – временное выпадение какой-то части обзора. И хоть я пытался себе объяснить, что это все мигрень, в итоге мы в ночи все же поехали вновь в клинику N1.
На этот раз мне сделали все возможные исследования, и тут, наверное, случилось то самое недопонимание между мной и врачом из-за, во-первых, моего несовершенного испанского, и, во-вторых, из-за разного «культурного кода» (простите). Она сказала, что обсудит мои дела завтра с главным врачом, и дальше по ситуации оставит в больнице направления на анализы, какие-то капли, вы приедете за ними (вдруг пригодятся), а уже в понедельник этот самый главный врач вас посмотрит и скажет, что надо делать – лазер, операцию, или что еще.
Все это было сказано как бы без тревоги, без слов – бегите срочно сдавайте анализы, лучше уж подготовиться к операции, чем потом терять время на ерунду, потому что времени у вас не будет. И вообще двигайтесь меньше и просто сидите на диване, когда можете, ведь каждое ваше движение приводит к отрыву сетчатки. Всего этого мне не сказали, и среди ее потока слов термин «отслоение сетчатки» я так и не распознал (тем более, что для этого здесь есть разные обозначения, и я, блин, ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ИХ ВСЕ).
Продолжая оставаться в частичном неведении, в воскресенье я поехал сперва за направлениями, а потом по настоянию Инны (важное замечание: без Инны и Сережи эта история не имела бы шансов на хэппи-энд), мы пошли в бесплатную офтальмологическую срочную помощь, на всякий случай. К этому времени слепое пятно справа стало разрастаться, я впадал в тревожную кому. Окулист в госбольнице через секунду после начала осмотра практически с возмущением сказала – да чего вы, блин, ходите, у вас отслойка сетчатки, алло! Бывает, что стекловидное тело цепляется за сетчатку, тянет за собой и рвет ее. У вас есть всего пара дней, чтобы сделать операцию, а потом будет поздно – зрение не вернете, время здесь самое важное.
Ну и тут началась наша гонка.
(История о том, как я едва не потерял зрение: середина)
В госбольнице сделать операцию мне не могли – врач не гарантировала, что уложимся в нужные сроки (и я без претензий, я эмигрант, и бесплатная медицина должна работать, в первую очередь, на аргентинцев). Она посоветовала две клиники, в которых работают лучшие хирурги – и это были клиники N1 и N2. Мы ахнули, но что делать, на часах воскресенье и времени нет.
Сперва мы вернулись в клинику N1, в надежде получить точную дату возможной операции, но нам сказали, что, может, это будет четверг, а может позже, кто знает – врач решит. Такой ответ меня не устроил, в четверг могло быть уже поздно. Поэтому мы пошли в клинику N2, где врачи тоже сказали «боже, нужна срочная операция», и назначили встречу с хирургом на утро понедельника.
Напомню, что все это происходит в другой стране, на чужом языке, и в рамках чужой и непонятно устроенной медицинской системы. Так что оставляю вам простор для фантазии представить мое состояние.
В понедельник в 6 утра я побежал сдавать анализы, все это пришлось делать в 3 разных частях города. В 8:30 у нас была консультация хирурга в клинике N2 и он, рассуждая о срочной срочности моей операции, предложил ее сделать… в четверг. Конечно, чем позже, тем сложнее операция, но что поделать.
Тем временем в процессе поездок по городу примерно к обеду понедельника мой правый глаз уже НЕ ВИДЕЛ ВООБЩЕ НИЧЕГО. Только заусенец неба слева вверху – за сутки моя сетчатка оторвалась примерно полностью. У разных людей этот процесс происходит с разной скоростью, и моя, конечно, делала все стремительно – с каждым шагом и поворотом головы. И только поэтому, хоть я физически и психологически уже не хотел идти на консультацию в клинику N1, а хотел просто лечь и умереть, я все же туда пошел. И, о чудо, там хирург сказал, что готов сделать операцию завтра первым делом, ведь это, блин, СРОЧНАЯ СИТУАЦИЯ. А еще он добавил, что операция проводится в два этапа: на первом сетчатку прижигают лазером и в глаз вместо стекловидного тела заливают масло, а на втором этапе (через пару месяцев) это масло выкачивают. Ах да, и еще, вероятно, надо будет заменить хрусталик, потому что от масла примерно у всех прогрессирует катаракта, и поставить специальный «корсет» на глаз.
С этими словами он отправил нас в финансовый отдел клиники.
Здесь надо сказать о медицинской системе в Аргентине. Тут есть бесплатная медицина, однако за исключением случаев, касающихся жизни, она работает очень медленно, особенно сейчас. Также есть частная медицина: можно платить за каждый визит к врачу отдельно, а можно оформить страховку. Страховок есть множество, ими недовольны примерно все, найти что-то приличное – титанический труд. Поэтому долгое время в силу нехватки языка и времени мы просто платили за каждый визит к врачу, и только к началу 2024 года решили купить страховку – ровно с 1 января (слава богу) она у меня начала действовать. Но каждая страховка также имеет огромное количество разных планов, и, честно говоря, до конца никогда непонятно, какая процедура входит в пакет, а какая – нет.
Мы спускаемся к консультантке, и она нам говорит, что страховая не покрывает операцию – первый этап будет стоить 10.500 долларов, второй – 6000 долларов. И это не считая хрусталика, потому что об этом потом. Я посмотрел на Сережу, Сережа посмотрел на консультантку, и спросил, где можно продать почку или что-то еще из органов. Девушка улыбнулась и сказала, что страховая теоретически может взять на себя хотя бы часть расходов. Для этого вам надо срочно ехать в отделение страховой, показывать всю свои историю болезни, и кричать о срочности операции.
Когда после поездки в страховую, после того, как мы застряли (!) в лифте нашего дома, вечером я сидел на диване и, рыдая в первый раз за все это время, рассказывал историю папе по телефону, мне написали, что страховая оплатит чуть больше половины стоимости первого этапа операции, а про остальное будет видно потом.
Так я стал готовиться к операции.
В госбольнице сделать операцию мне не могли – врач не гарантировала, что уложимся в нужные сроки (и я без претензий, я эмигрант, и бесплатная медицина должна работать, в первую очередь, на аргентинцев). Она посоветовала две клиники, в которых работают лучшие хирурги – и это были клиники N1 и N2. Мы ахнули, но что делать, на часах воскресенье и времени нет.
Сперва мы вернулись в клинику N1, в надежде получить точную дату возможной операции, но нам сказали, что, может, это будет четверг, а может позже, кто знает – врач решит. Такой ответ меня не устроил, в четверг могло быть уже поздно. Поэтому мы пошли в клинику N2, где врачи тоже сказали «боже, нужна срочная операция», и назначили встречу с хирургом на утро понедельника.
Напомню, что все это происходит в другой стране, на чужом языке, и в рамках чужой и непонятно устроенной медицинской системы. Так что оставляю вам простор для фантазии представить мое состояние.
В понедельник в 6 утра я побежал сдавать анализы, все это пришлось делать в 3 разных частях города. В 8:30 у нас была консультация хирурга в клинике N2 и он, рассуждая о срочной срочности моей операции, предложил ее сделать… в четверг. Конечно, чем позже, тем сложнее операция, но что поделать.
Тем временем в процессе поездок по городу примерно к обеду понедельника мой правый глаз уже НЕ ВИДЕЛ ВООБЩЕ НИЧЕГО. Только заусенец неба слева вверху – за сутки моя сетчатка оторвалась примерно полностью. У разных людей этот процесс происходит с разной скоростью, и моя, конечно, делала все стремительно – с каждым шагом и поворотом головы. И только поэтому, хоть я физически и психологически уже не хотел идти на консультацию в клинику N1, а хотел просто лечь и умереть, я все же туда пошел. И, о чудо, там хирург сказал, что готов сделать операцию завтра первым делом, ведь это, блин, СРОЧНАЯ СИТУАЦИЯ. А еще он добавил, что операция проводится в два этапа: на первом сетчатку прижигают лазером и в глаз вместо стекловидного тела заливают масло, а на втором этапе (через пару месяцев) это масло выкачивают. Ах да, и еще, вероятно, надо будет заменить хрусталик, потому что от масла примерно у всех прогрессирует катаракта, и поставить специальный «корсет» на глаз.
С этими словами он отправил нас в финансовый отдел клиники.
Здесь надо сказать о медицинской системе в Аргентине. Тут есть бесплатная медицина, однако за исключением случаев, касающихся жизни, она работает очень медленно, особенно сейчас. Также есть частная медицина: можно платить за каждый визит к врачу отдельно, а можно оформить страховку. Страховок есть множество, ими недовольны примерно все, найти что-то приличное – титанический труд. Поэтому долгое время в силу нехватки языка и времени мы просто платили за каждый визит к врачу, и только к началу 2024 года решили купить страховку – ровно с 1 января (слава богу) она у меня начала действовать. Но каждая страховка также имеет огромное количество разных планов, и, честно говоря, до конца никогда непонятно, какая процедура входит в пакет, а какая – нет.
Мы спускаемся к консультантке, и она нам говорит, что страховая не покрывает операцию – первый этап будет стоить 10.500 долларов, второй – 6000 долларов. И это не считая хрусталика, потому что об этом потом. Я посмотрел на Сережу, Сережа посмотрел на консультантку, и спросил, где можно продать почку или что-то еще из органов. Девушка улыбнулась и сказала, что страховая теоретически может взять на себя хотя бы часть расходов. Для этого вам надо срочно ехать в отделение страховой, показывать всю свои историю болезни, и кричать о срочности операции.
Когда после поездки в страховую, после того, как мы застряли (!) в лифте нашего дома, вечером я сидел на диване и, рыдая в первый раз за все это время, рассказывал историю папе по телефону, мне написали, что страховая оплатит чуть больше половины стоимости первого этапа операции, а про остальное будет видно потом.
Так я стал готовиться к операции.
(История о том, как я едва не потерял зрение: конец)
Не буду рассказывать подробно о самой операции. Скажу только, что она проводилась под местным наркозом и с сильным седативным средством, и это меня очень пугало, потому что я страдаю от панических атак, а эта ситуация – идеальна для их появления. Ночь перед операцией была, пожалуй, самой мучительной в моей жизни. Постфактум к врачам у меня только благодарность – вся команда была хорошей, внимательной, так что мне было комфортно настолько, насколько это вообще возможно в подобный момент.
Период восстановления длинный и трудный. Первые сутки ты можешь лежать только вниз головой, положив руки под голову. Если вы попробуете так полежать, то поймете, что дольше 15 минут находиться в этой позе – невыносимо. Месяц мне нельзя было выходить из дома, даже сейчас мне по-прежнему нельзя поднимать полуторалитровую бутылку воды. Правая сторона лица все это время была такой отекшей, как будто я грустный мопс с инсультом)) Читать я могу только левым глазом, срок восстановления правого – от 3 до 6 месяцев. Добавлю, что сама операция прошла хорошо – хирург очень доволен результатом (ну и я вслед за ним).
***
Прошу меня простить за длинный текст с кучей подробностей, которые могут показаться лишними. Мне было важно рассказать историю полностью, чтобы сразу закрыть большинство вопросов, поделиться опытом, и чтобы вы могли лучше представить себе все то говно, которое случилось.
Теперь о цифрах – первая операция стоила 4.500 долларов. Вторая будет стоить от 3000 до 6000 долларов в зависимости от решения страховой. Стоимость замены хрусталика пока неясна, но вряд ли она обойдется здесь дешевле 2000 долларов. Также надо сделать лазерную пайку на левом глазу, так как левый глаз сейчас главный повод для беспокойства и меня, и хирурга – с ним может повториться та же история, что с правым. И надо этого не допустить. Вряд ли это будет стоить дорого, но совокупная цена лечения колеблется от 9.500 до 14.500 долларов. (Да, у меня тоже ощущение, что я лечусь не в Аргентине, а в США).
Для меня это большие деньги. Так или иначе, если не случится никакой дополнительной беды, я (а вернее – мы, без Сережи с Инной и моих близких я бы давно просто лег на тротуар и умер, не желая во всем этом говне участвовать) справлюсь. Но если вы хотите меня поддержать – сейчас для этого самый подходящий момент. Я буду очень признателен за любую помощь, хоть за 100 рублей.
P.S. Когда недавно я впервые сам, один, дошел до ближайшего к дому магазину и купил шоколад и фрукты, я был просто очень счастлив. Так что если у вас два видящих глаза и нет таких вот проблем – цените это, боже, вам очень повезло! И берегите всегда свое здоровье.
Мои реквизиты:
Тинькофф
5536 9141 4389 7654
Райффайзен Банк
2200 3001 0366 0229
(В реквизитах будет указан адресат Сергей Л. – это я и есть, если кто-то решит сделать перевод).
USDT-Tron
TUGbcV6WY5c4obzxwNjswvL2qjxwLvAykp
Не буду рассказывать подробно о самой операции. Скажу только, что она проводилась под местным наркозом и с сильным седативным средством, и это меня очень пугало, потому что я страдаю от панических атак, а эта ситуация – идеальна для их появления. Ночь перед операцией была, пожалуй, самой мучительной в моей жизни. Постфактум к врачам у меня только благодарность – вся команда была хорошей, внимательной, так что мне было комфортно настолько, насколько это вообще возможно в подобный момент.
Период восстановления длинный и трудный. Первые сутки ты можешь лежать только вниз головой, положив руки под голову. Если вы попробуете так полежать, то поймете, что дольше 15 минут находиться в этой позе – невыносимо. Месяц мне нельзя было выходить из дома, даже сейчас мне по-прежнему нельзя поднимать полуторалитровую бутылку воды. Правая сторона лица все это время была такой отекшей, как будто я грустный мопс с инсультом)) Читать я могу только левым глазом, срок восстановления правого – от 3 до 6 месяцев. Добавлю, что сама операция прошла хорошо – хирург очень доволен результатом (ну и я вслед за ним).
***
Прошу меня простить за длинный текст с кучей подробностей, которые могут показаться лишними. Мне было важно рассказать историю полностью, чтобы сразу закрыть большинство вопросов, поделиться опытом, и чтобы вы могли лучше представить себе все то говно, которое случилось.
Теперь о цифрах – первая операция стоила 4.500 долларов. Вторая будет стоить от 3000 до 6000 долларов в зависимости от решения страховой. Стоимость замены хрусталика пока неясна, но вряд ли она обойдется здесь дешевле 2000 долларов. Также надо сделать лазерную пайку на левом глазу, так как левый глаз сейчас главный повод для беспокойства и меня, и хирурга – с ним может повториться та же история, что с правым. И надо этого не допустить. Вряд ли это будет стоить дорого, но совокупная цена лечения колеблется от 9.500 до 14.500 долларов. (Да, у меня тоже ощущение, что я лечусь не в Аргентине, а в США).
Для меня это большие деньги. Так или иначе, если не случится никакой дополнительной беды, я (а вернее – мы, без Сережи с Инной и моих близких я бы давно просто лег на тротуар и умер, не желая во всем этом говне участвовать) справлюсь. Но если вы хотите меня поддержать – сейчас для этого самый подходящий момент. Я буду очень признателен за любую помощь, хоть за 100 рублей.
P.S. Когда недавно я впервые сам, один, дошел до ближайшего к дому магазину и купил шоколад и фрукты, я был просто очень счастлив. Так что если у вас два видящих глаза и нет таких вот проблем – цените это, боже, вам очень повезло! И берегите всегда свое здоровье.
Мои реквизиты:
Тинькофф
5536 9141 4389 7654
Райффайзен Банк
2200 3001 0366 0229
(В реквизитах будет указан адресат Сергей Л. – это я и есть, если кто-то решит сделать перевод).
USDT-Tron
TUGbcV6WY5c4obzxwNjswvL2qjxwLvAykp
Тем временем на грани нервного срыва не только мы с вами, но даже описания вакансий.
Дерзко? Более чем.
Дерзко? Более чем.
Примерно все, кто меня хорошо знает (да и даже те, кто знает меня не очень хорошо), в курсе, как скептически я смотрю на человечество. И в последнее время было не так чтобы много событий, которые опровергали бы мои взгляды. Поэтому сам я спокойно помогал кому-то, если помощь требовалась, а я мог что-то сделать, но (правда) никогда не думал, что в случае чего люди придут на помощь мне.
И вот теперь, благодаря всем вам, я должен признать, что был не прав и что ошибался.
(Несвойственная мне роль – обычно я выступаю в жанре: ну я так и знал, а я же говорил, а вы не слушали!!).
Так вот, на данный момент мы УЖЕ собрали просто целую кучу денег. Гораздо больше, чем я даже мог надеяться. Эта сумма покрывает половину от той, что потребуется, если страховая умоет руки. А если не умоет – и я верю, так и будет – то гораздо больше половины. Это значит, что после всего я не останусь без штанов (и с паникой), а останусь с большим оптимизмом (и желательно двумя зорко смотрящими глазами).
(Вот вам чудо: должен признать, что когда я увидел собранные средства, то даже мой правый глаз на пару секунд полностью прозрел! Поразительно, согласитесь, как наука объяснит этот факт?).
Я хочу сказать, что получил просто море-океан поддержки – мне написали столько добрых слов такое количество людей, что в день публикации поста я просто до вечера не мог вернуться к работе. Вы проявили какое-то невероятное участие, и я этим удивлен, тронут и смущен.
Спасибо всем (и каждому в отдельности). Вы очень классные. И если это не доказательство силы коллективного действия – и того, что мы действительно можем друг другу помочь – то я тогда даже не знаю, что вообще может быть доказательством этого.
И вот теперь, благодаря всем вам, я должен признать, что был не прав и что ошибался.
(Несвойственная мне роль – обычно я выступаю в жанре: ну я так и знал, а я же говорил, а вы не слушали!!).
Так вот, на данный момент мы УЖЕ собрали просто целую кучу денег. Гораздо больше, чем я даже мог надеяться. Эта сумма покрывает половину от той, что потребуется, если страховая умоет руки. А если не умоет – и я верю, так и будет – то гораздо больше половины. Это значит, что после всего я не останусь без штанов (и с паникой), а останусь с большим оптимизмом (и желательно двумя зорко смотрящими глазами).
(Вот вам чудо: должен признать, что когда я увидел собранные средства, то даже мой правый глаз на пару секунд полностью прозрел! Поразительно, согласитесь, как наука объяснит этот факт?).
Я хочу сказать, что получил просто море-океан поддержки – мне написали столько добрых слов такое количество людей, что в день публикации поста я просто до вечера не мог вернуться к работе. Вы проявили какое-то невероятное участие, и я этим удивлен, тронут и смущен.
Спасибо всем (и каждому в отдельности). Вы очень классные. И если это не доказательство силы коллективного действия – и того, что мы действительно можем друг другу помочь – то я тогда даже не знаю, что вообще может быть доказательством этого.
Так как читаю я сейчас только по работе – а для души приходиться слушать – я решил закрывать старые гештальты, и вот, наконец, добрался до Салли Руни и ее романа «Прекрасный мир, где же ты». (Здесь стоит сделать пометку, что вышел он в 2021-м, то есть ТРИ года назад – осознание этого меня страшно пугает).
Сначала о хорошем: во-первых, роман отлично перевела Аня Бабяшкина, которой передаю большой привет. Во-вторых, это буквально первая книга, которую мне понравилось слушать. Роман начитала Марина Гладкая, и мне ужасно жаль, что в основном среди ее работ – психологический нонфик, а не художественная литература, потому что я бы слушал буквально любой мало-мальски удачный роман, записанный ее голосом.
Наконец, в-третьих, книга очень хороша сама по себе – вернее, так: 80% романа отличные, а последние 20% едва ли не все портят, так что если бы я знал содержание и интонацию последних глав, я бы просто закончил читать аккурат перед ними.
Так вот, о чем история (если вы с ней не знакомы). Есть две девушки: Айлин и Элис. Обе заканчивали один и тот же филфак, только одна потом написала роман, продала его за 200 тысяч долларов и полежала в клинике после нервного срыва, а другая устроилась в никому ненужный литературный журнал, да, в общем, на этом и все, что можно о ней сказать. Девушки живут в Ирландии, на расстоянии пары часов на машине, и постоянно переписываются – то есть они серьезно пишут друг другу пространные электронные письма (о культуре, Советском Союзе, конце мира и прочих важных вещах).
Помимо Айлин и Элис в романе есть еще два персонажа – Саймон и Феликс (по одному мужчине на героиню). Саймон – давнее увлечение Айлин, успешный общественный деятель, красавец ростом под два метра, играть с которым (кажется) Айлин веселее, чем всерьез встречаться с ним. Феликс же – новый любовник Элис, обычный трудяга из провинции, грубоватая прямолинейность и пресловутая «жизненная цельность» которого привлекают уставшую от себя самой писательницу.
Это диспозиция романа – в сущности, его динамика строится на динамике взаимоотношений героев: любовных и дружеских. И так как я человек меланхоличный, их бесконечные разговоры о жизненной неустроенности и попытке эту неустроенность как-то преодолеть (самостоятельно или за счет ближнего своего) лично мне были чрезвычайно симпатичны. В принципе, я мог бы слушать это примерно всю жизнь, тем более, что обсуждение регулярных невзгод перебивается то и дело обсуждением невзгод мировых (то есть это буквально практически моя жизнь, если переместиться лет на пять назад, когда деревья были большими, а слова имели значение).
И вот в этой потенциальной бесконечности романа – его проблема. Книги так устроены, что в них (на беду) необходимо ставить точку. Салли Руни же создала своих персонажей такими, что – положив руку на сердце – оглушительный хэппи-энд у них должен был бы случиться либо давным-давно, либо его не должно было быть вовсе, а вместо этого полагалась бы просто жизнь, без чудес. Но книгу заканчивать надо, так или иначе, и Руни просто по-читерски воспользовалась авторской властью, чтобы всем сестрам раздать по серьгам (то есть каждой героине по любовнику), а читателям преподнести почти лошадиную дозу оптимизма (до головокружения).
Как итог – я получил просто огромное удовольствие от большей части книги. Она меня успокаивала и радовала, то есть оказывала удивительный эффект в текущих обстоятельствах. Но финал я бы отрезал за ненадобностью и неправдоподобностью – пусть это была бы книга в духе фильмов «один день из жизни госпожи N.». Так было бы честнее и тоньше, на мой взгляд.
P.S. Да, и отдельный вопрос у меня к Салли Руни по поводу ее женских персонажей. В «Разговорах с друзьями» еще куда ни шло, в «Нормальных людях» и так, и эдак, но к «Прекрасному миру, где же ты» ее героини совсем превратились из самостоятельных людей в кисейных барышень, спасти которых от собственноручно созданных проблем могут только понятные и цельные мужчины (и, желательно, брак). Ну, блин, как так-то, эй?
#книги
Сначала о хорошем: во-первых, роман отлично перевела Аня Бабяшкина, которой передаю большой привет. Во-вторых, это буквально первая книга, которую мне понравилось слушать. Роман начитала Марина Гладкая, и мне ужасно жаль, что в основном среди ее работ – психологический нонфик, а не художественная литература, потому что я бы слушал буквально любой мало-мальски удачный роман, записанный ее голосом.
Наконец, в-третьих, книга очень хороша сама по себе – вернее, так: 80% романа отличные, а последние 20% едва ли не все портят, так что если бы я знал содержание и интонацию последних глав, я бы просто закончил читать аккурат перед ними.
Так вот, о чем история (если вы с ней не знакомы). Есть две девушки: Айлин и Элис. Обе заканчивали один и тот же филфак, только одна потом написала роман, продала его за 200 тысяч долларов и полежала в клинике после нервного срыва, а другая устроилась в никому ненужный литературный журнал, да, в общем, на этом и все, что можно о ней сказать. Девушки живут в Ирландии, на расстоянии пары часов на машине, и постоянно переписываются – то есть они серьезно пишут друг другу пространные электронные письма (о культуре, Советском Союзе, конце мира и прочих важных вещах).
Помимо Айлин и Элис в романе есть еще два персонажа – Саймон и Феликс (по одному мужчине на героиню). Саймон – давнее увлечение Айлин, успешный общественный деятель, красавец ростом под два метра, играть с которым (кажется) Айлин веселее, чем всерьез встречаться с ним. Феликс же – новый любовник Элис, обычный трудяга из провинции, грубоватая прямолинейность и пресловутая «жизненная цельность» которого привлекают уставшую от себя самой писательницу.
Это диспозиция романа – в сущности, его динамика строится на динамике взаимоотношений героев: любовных и дружеских. И так как я человек меланхоличный, их бесконечные разговоры о жизненной неустроенности и попытке эту неустроенность как-то преодолеть (самостоятельно или за счет ближнего своего) лично мне были чрезвычайно симпатичны. В принципе, я мог бы слушать это примерно всю жизнь, тем более, что обсуждение регулярных невзгод перебивается то и дело обсуждением невзгод мировых (то есть это буквально практически моя жизнь, если переместиться лет на пять назад, когда деревья были большими, а слова имели значение).
И вот в этой потенциальной бесконечности романа – его проблема. Книги так устроены, что в них (на беду) необходимо ставить точку. Салли Руни же создала своих персонажей такими, что – положив руку на сердце – оглушительный хэппи-энд у них должен был бы случиться либо давным-давно, либо его не должно было быть вовсе, а вместо этого полагалась бы просто жизнь, без чудес. Но книгу заканчивать надо, так или иначе, и Руни просто по-читерски воспользовалась авторской властью, чтобы всем сестрам раздать по серьгам (то есть каждой героине по любовнику), а читателям преподнести почти лошадиную дозу оптимизма (до головокружения).
Как итог – я получил просто огромное удовольствие от большей части книги. Она меня успокаивала и радовала, то есть оказывала удивительный эффект в текущих обстоятельствах. Но финал я бы отрезал за ненадобностью и неправдоподобностью – пусть это была бы книга в духе фильмов «один день из жизни госпожи N.». Так было бы честнее и тоньше, на мой взгляд.
P.S. Да, и отдельный вопрос у меня к Салли Руни по поводу ее женских персонажей. В «Разговорах с друзьями» еще куда ни шло, в «Нормальных людях» и так, и эдак, но к «Прекрасному миру, где же ты» ее героини совсем превратились из самостоятельных людей в кисейных барышень, спасти которых от собственноручно созданных проблем могут только понятные и цельные мужчины (и, желательно, брак). Ну, блин, как так-то, эй?
#книги
Я редко вступаю в спор с умными людьми, и все же скажу, что не могу разделить общих восторгов от фильма «Зона интересов», в котором мы имеем возможность наблюдать за немецкой семьей, наслаждающейся своим прекрасным домом аккурат у стены концлагеря, под звуки криков и запах сжигаемых тел. Я, безусловно, понимаю идею фильма – благо, за отпущенный тайминг ее смог разглядеть даже подслеповатый я – и мне нетрудно догадаться, как важно вновь и вновь обращаться к заданной теме, пусть даже искусство никогда и ни от чего нас еще не спасло. И все же кажется излишней роскошью тратить на решение примера «дважды два» столько времени, особенно сегодня, когда можно просто открыть в параллель две ленты новостей – одну в разделе «политика», а другую в разделе «светской хроники».
Или можно даже ничего не открывать, а взять и сходить в только появившийся московский бар «Хиросима, моя любовь» (ох уж эта бедная киноклассика), создатели которого заманивают посетителей самым изящным образом. Основатели предлагают насладиться концепцией заведения – прогуляться по «разрушенному городу», где «винтажная мебель гармонично сочетается с эффектом обгоревших стен» (это цитаты). Сложно себе в таком отказать, понимаю – тем более, что «центральным арт-объектом является барная стойка», «напоминающая разрушенную панельную многоэтажку» (а то нам мало фотографий). «Эстетика разрушения», пожалуй, и правда способствует употреблению алкоголя – здесь не поспоришь.
(И я, правда, никого и ни за что не осуждаю – не подумайте. Жить в вечном неврозе нельзя, не буду кривить душой, будто я вел монашеский образ жизни еще до того, как единственным вариантом моего выхода в свет осталась поездка к врачу. Нет, я даже порой веселился, и все же есть в такой самопрезентации что-то, от чего мурашки-то по коже бегут – «Зоне интересов» есть чему поучиться).
Или можно даже ничего не открывать, а взять и сходить в только появившийся московский бар «Хиросима, моя любовь» (ох уж эта бедная киноклассика), создатели которого заманивают посетителей самым изящным образом. Основатели предлагают насладиться концепцией заведения – прогуляться по «разрушенному городу», где «винтажная мебель гармонично сочетается с эффектом обгоревших стен» (это цитаты). Сложно себе в таком отказать, понимаю – тем более, что «центральным арт-объектом является барная стойка», «напоминающая разрушенную панельную многоэтажку» (а то нам мало фотографий). «Эстетика разрушения», пожалуй, и правда способствует употреблению алкоголя – здесь не поспоришь.
(И я, правда, никого и ни за что не осуждаю – не подумайте. Жить в вечном неврозе нельзя, не буду кривить душой, будто я вел монашеский образ жизни еще до того, как единственным вариантом моего выхода в свет осталась поездка к врачу. Нет, я даже порой веселился, и все же есть в такой самопрезентации что-то, от чего мурашки-то по коже бегут – «Зоне интересов» есть чему поучиться).
Я случайно набрел на лекторий Музея истории ГУЛАГа, и хочу посоветовать его всем, кто интересуется темой. Там много хороших материалов о репрессиях сталинской эпохи в целом, и есть отдельный блок для любителей литературы – то есть, скажем, «Алексей Толстой и репрессии», «Максим Горький и ГУЛАГ», и должно найтись что-то еще не менее вдохновляющее.
Про Горького я послушал лекцию буквально вчера – и узнал пару любопытных деталей, о которых лично я раньше не знал. Оказывается, посещение Горьким Соловецкого лагеря пролоббировал лично Сталин, так-то Алексей Максимович не планировал туда ехать – навещая в погожее время СССР, все еще раздумывая над окончательным возвращением в страну, он мечтал совершить тур по «местам прошлого», чтобы сравнить, как изменилась провинциальная жизнь в стране за последние годы. И Сталин был только за, благо, что дурного Горький бы ничего не опубликовал, даже если бы захотел. Но Соловки были для него особенно важны.
Дело в том, что в середине 1920-х из лагеря удалось бежать нескольким заключенным, среди которых был Созерко Мальсагов. Через Финляндию и Латвию белогвардеец добрался до Англии. Там он написал книгу «Адский остров», которую при содействии Константина Набокова (дяди Владимира Набокова) перевел на английский и издал в Великобритании. Книга произвела на публику впечатление – особенно посреди восторгов интеллигентов советским проектом – и она воспринималась тем острее, что Мальсагов рассказывал об использовании труда заключенных для лесозаготовок. Лес этот потом экспортировали на запад, и это было важным источником дохода для СССР.
Собственно, на волне шума – а также постепенного просачивания информации из разных источников о рабских условиях труда на Соловках – в Англии, а потом и в других странах задумались, а не ввести ли санкции против поставок леса из СССР? Сталина устроить это не могло, и потому, раз уж Горький едет в турне по стране счастья, почему бы его заодно не отправить и на Соловки. Ведь к голосу Алексея Максимовича на западе прислушивались, и кому, как не ему развеять все эти гнусные слухи о лагере.
В общем, неплохой KPI для писателя, я считаю – сколько стран (не) введут санкции после твоего восхищенного очерка, соответствующего размера и будет у тебя премия.
(А у Мальсагова вообще какая-то невероятная жизнь оказалась – после Лондона он осел в Польше, воевал с немцами, попал в лагерь для военнопленных, откуда бежал в Польшу в 1944-м и вступил в ряды Сопротивления. Потом ему удалось выбраться снова в Лондон, где он прожил до 1976 года).
Про Горького я послушал лекцию буквально вчера – и узнал пару любопытных деталей, о которых лично я раньше не знал. Оказывается, посещение Горьким Соловецкого лагеря пролоббировал лично Сталин, так-то Алексей Максимович не планировал туда ехать – навещая в погожее время СССР, все еще раздумывая над окончательным возвращением в страну, он мечтал совершить тур по «местам прошлого», чтобы сравнить, как изменилась провинциальная жизнь в стране за последние годы. И Сталин был только за, благо, что дурного Горький бы ничего не опубликовал, даже если бы захотел. Но Соловки были для него особенно важны.
Дело в том, что в середине 1920-х из лагеря удалось бежать нескольким заключенным, среди которых был Созерко Мальсагов. Через Финляндию и Латвию белогвардеец добрался до Англии. Там он написал книгу «Адский остров», которую при содействии Константина Набокова (дяди Владимира Набокова) перевел на английский и издал в Великобритании. Книга произвела на публику впечатление – особенно посреди восторгов интеллигентов советским проектом – и она воспринималась тем острее, что Мальсагов рассказывал об использовании труда заключенных для лесозаготовок. Лес этот потом экспортировали на запад, и это было важным источником дохода для СССР.
Собственно, на волне шума – а также постепенного просачивания информации из разных источников о рабских условиях труда на Соловках – в Англии, а потом и в других странах задумались, а не ввести ли санкции против поставок леса из СССР? Сталина устроить это не могло, и потому, раз уж Горький едет в турне по стране счастья, почему бы его заодно не отправить и на Соловки. Ведь к голосу Алексея Максимовича на западе прислушивались, и кому, как не ему развеять все эти гнусные слухи о лагере.
В общем, неплохой KPI для писателя, я считаю – сколько стран (не) введут санкции после твоего восхищенного очерка, соответствующего размера и будет у тебя премия.
(А у Мальсагова вообще какая-то невероятная жизнь оказалась – после Лондона он осел в Польше, воевал с немцами, попал в лагерь для военнопленных, откуда бежал в Польшу в 1944-м и вступил в ряды Сопротивления. Потом ему удалось выбраться снова в Лондон, где он прожил до 1976 года).
Какую отличную (и в то же время опасную и противоречивую) завязку сюжета придумала японская писательница Котоми Ли в своем романе «Празднование жизни» (он, увы, пока не переведен даже на английский, не то что на русский).
Действие книги происходит в 2075 году. Согласно принятому в Японии закону, рождение ребенка должно быть не только желанием счастливых родителей, но и желанием, собственно, самого ребенка (ну наконец-то, боже мой!). «Закон о Согласии» обязывает до родов поинтересоваться у зародыша, а хочет ли вообще он/а появляться на этот грешный свет или нет. Каким-то образом плоду сообщают о здоровье родителей и, полагаю, прочем положении дел.
И вот, главные герои – молодая здоровая пара – готовятся к родам, все у них хорошо, и сомнений в том, что плод согласится появиться на свет у них никаких нет. А он вдруг берет и дает отказ, ставя потенциальных будущих родителей в отчаянное положение.
В 2021-м писательница за этот роман получила премию Акутагавы.
#книги
Действие книги происходит в 2075 году. Согласно принятому в Японии закону, рождение ребенка должно быть не только желанием счастливых родителей, но и желанием, собственно, самого ребенка (ну наконец-то, боже мой!). «Закон о Согласии» обязывает до родов поинтересоваться у зародыша, а хочет ли вообще он/а появляться на этот грешный свет или нет. Каким-то образом плоду сообщают о здоровье родителей и, полагаю, прочем положении дел.
И вот, главные герои – молодая здоровая пара – готовятся к родам, все у них хорошо, и сомнений в том, что плод согласится появиться на свет у них никаких нет. А он вдруг берет и дает отказ, ставя потенциальных будущих родителей в отчаянное положение.
В 2021-м писательница за этот роман получила премию Акутагавы.
#книги