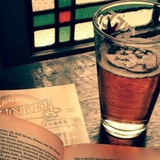Наткнулась на отличное интервью Юдина про политфилософию в Шанинке (можно было бы перестать вешаться на идею академии, но я че-то пока не готова, видимо). В другом мире оно делалось, конечно, но все это вот — ровно то, что мне в гуманитарной академии и нравится.
1. О том, что политфилософия позволяет критиковать то, что считается нормальным и фантазировать новые порядки:
Дело в том, что политическая наука исходит из ограниченного набора институтов (как правило, это институты либеральной демократии) и смотрит, как устроены закономерности внутри этих институтов или отклонения от этих институтов. В ней зашита довольно жесткая нормативная модель, которую она обычно не рефлексирует: грубо говоря, в норме мир устроен так, как устроены современные либерально-демократические режимы, и нормальный человек — это человек с мотивациями, привычками и эмоциями гражданина либерально-демократического государства. Остальное — отклонения.
2. Про необходимость академической шизофрении:
Как исследователь ты должен уметь одновременно удерживать несколько позиций и переключаться между ними. Одна из этих позиций связана с тем, какие последствия будет иметь твое исследование. Другая связана с твоей возможностью, как говорил Эдмунд Гуссерль, «заключить мир в скобки», ввести инъекцию сомнения в вещи и представить их себе как бы несуществующими или модифицируемыми — а что было бы, если бы все было по-другому, если бы переменились вещи, которые для тебя, например, эмоционально или ценностно важны? Умение «заключить мир в скобки» дает важный ресурс, которого за пределами исследования нет. Когда ты входишь в исследовательскую ситуацию, ты можешь увидеть что-то, что в ситуации активной вовлеченности незаметно, попадает в зону “слепого пятна”. Поэтому нужно учиться искусству переключения, модуляции, перехода между этими установками и умению зафиксировать свои интересы, стремление, мотивации, а потом приостановить их, выполнить исследование и вернуться к ним. Это постоянное переключение, которым мы занимаемся.
3. Про мотивацию в исследованиях:
Когда я объясняю, как устроено исследование, мне больше всего помогает модель, которую ввел американский прагматист Джон Дьюи. Он говорил, что исследование всегда обусловлено какими-то противоречиями в нашем опыте. Человек стремится к какой-то цельности, объясняющей ему мир. Это не значит, что его мировоззрение обязательно будет непротиворечивым, но человек не должен постоянно об эти противоречия спотыкаться. Когда это происходит, у него возникает желание исследовать. Мы начинаем так действовать с детства: когда мы ждем Деда Мороза, а потом обнаруживаем, что в соседней комнате приклеивает бороду какой-то знакомый дядя, возникает противоречие. Мы начинаем исследовать, что происходит, идем к родителям, спрашиваем, как такое может быть. Так устроено любое исследование. Когда появляется противоречие в опыте, мы идем и исследуем. Точно так же и в социальной науке — должен быть какой-то стимул, какое-то противоречие, которое мотивирует тебя проводить исследование. Противоречие хорошо бы зафиксировать — откуда оно появилось, почему меня что-то не устраивает, что меня коробит. После этого нужно перейти в режим конкретного исследования, когда ты говоришь себе — мне нужно успокоиться, заняться, возможно, длительным исследованием, и это поможет мне разобраться с тем, что меня исходно интересует.
4. Про борьбу с историей в России:
Собственно историческое в истории — это понимание случайности, необязательности и контингентности того, что происходит. Понимание, что вещи могли произойти иначе и могут быть устроены иначе в дальнейшем, что всегда существуют альтернативы. А стремление вычесть альтернативы приводит к тому, что история представляется чем-то неподвижным, то есть мертвой историей. Мы всегда с кем-то воевали и продолжаем воевать, ничего не меняется, история стоит на месте.
1. О том, что политфилософия позволяет критиковать то, что считается нормальным и фантазировать новые порядки:
Дело в том, что политическая наука исходит из ограниченного набора институтов (как правило, это институты либеральной демократии) и смотрит, как устроены закономерности внутри этих институтов или отклонения от этих институтов. В ней зашита довольно жесткая нормативная модель, которую она обычно не рефлексирует: грубо говоря, в норме мир устроен так, как устроены современные либерально-демократические режимы, и нормальный человек — это человек с мотивациями, привычками и эмоциями гражданина либерально-демократического государства. Остальное — отклонения.
2. Про необходимость академической шизофрении:
Как исследователь ты должен уметь одновременно удерживать несколько позиций и переключаться между ними. Одна из этих позиций связана с тем, какие последствия будет иметь твое исследование. Другая связана с твоей возможностью, как говорил Эдмунд Гуссерль, «заключить мир в скобки», ввести инъекцию сомнения в вещи и представить их себе как бы несуществующими или модифицируемыми — а что было бы, если бы все было по-другому, если бы переменились вещи, которые для тебя, например, эмоционально или ценностно важны? Умение «заключить мир в скобки» дает важный ресурс, которого за пределами исследования нет. Когда ты входишь в исследовательскую ситуацию, ты можешь увидеть что-то, что в ситуации активной вовлеченности незаметно, попадает в зону “слепого пятна”. Поэтому нужно учиться искусству переключения, модуляции, перехода между этими установками и умению зафиксировать свои интересы, стремление, мотивации, а потом приостановить их, выполнить исследование и вернуться к ним. Это постоянное переключение, которым мы занимаемся.
3. Про мотивацию в исследованиях:
Когда я объясняю, как устроено исследование, мне больше всего помогает модель, которую ввел американский прагматист Джон Дьюи. Он говорил, что исследование всегда обусловлено какими-то противоречиями в нашем опыте. Человек стремится к какой-то цельности, объясняющей ему мир. Это не значит, что его мировоззрение обязательно будет непротиворечивым, но человек не должен постоянно об эти противоречия спотыкаться. Когда это происходит, у него возникает желание исследовать. Мы начинаем так действовать с детства: когда мы ждем Деда Мороза, а потом обнаруживаем, что в соседней комнате приклеивает бороду какой-то знакомый дядя, возникает противоречие. Мы начинаем исследовать, что происходит, идем к родителям, спрашиваем, как такое может быть. Так устроено любое исследование. Когда появляется противоречие в опыте, мы идем и исследуем. Точно так же и в социальной науке — должен быть какой-то стимул, какое-то противоречие, которое мотивирует тебя проводить исследование. Противоречие хорошо бы зафиксировать — откуда оно появилось, почему меня что-то не устраивает, что меня коробит. После этого нужно перейти в режим конкретного исследования, когда ты говоришь себе — мне нужно успокоиться, заняться, возможно, длительным исследованием, и это поможет мне разобраться с тем, что меня исходно интересует.
4. Про борьбу с историей в России:
Собственно историческое в истории — это понимание случайности, необязательности и контингентности того, что происходит. Понимание, что вещи могли произойти иначе и могут быть устроены иначе в дальнейшем, что всегда существуют альтернативы. А стремление вычесть альтернативы приводит к тому, что история представляется чем-то неподвижным, то есть мертвой историей. Мы всегда с кем-то воевали и продолжаем воевать, ничего не меняется, история стоит на месте.
🔥7
Продолжаю читать Бергера.
«Когда индивида заставляют пристально всматриваться в зеркало, специально сделанное так, что на него оттуда смотрит злобное чудовище, но должен немедленно приняться за поиски других людей с другими зеркалами, если, конечно, он не забыл, что когда-то у него было другое лицо. Иначе говоря, обладать человеческим достоинством можно лишь с дозволения общества».
Сказанное так же верно и в случае, если зеркало криво в другую сторону и показывает картину сильно лучше/значительнее, чем есть на самом деле.
«Когда индивида заставляют пристально всматриваться в зеркало, специально сделанное так, что на него оттуда смотрит злобное чудовище, но должен немедленно приняться за поиски других людей с другими зеркалами, если, конечно, он не забыл, что когда-то у него было другое лицо. Иначе говоря, обладать человеческим достоинством можно лишь с дозволения общества».
Сказанное так же верно и в случае, если зеркало криво в другую сторону и показывает картину сильно лучше/значительнее, чем есть на самом деле.
🔥4
Forwarded from Остап Кармоди | Новости Конца Света
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Видео, которое отлично состарилось. 2018.
😁12
(1) Давно хотела репостнуть это видео, потому что оно очень, на мой взгляд, знаковое.
Кроме того, что это просто забавно, тут есть некоторое сюжетное напряжение — в том, что это не просто смехуевочка, а некоторый документ эпохи.
«Умный-разумный» Запад похихивает с одиозного лидера, чье избрание казалось своего рода дурным анекдотом. Что, однако, стоит понимать (и об этом неплохо пишет Бруно Латур в своем памфлете «Где приземлиться?»), так это то, что избрание Трампа ознаменовало разрыв с идеей Глобальной земли. Метафора стены, которую он хотел построить вокруг Америки — это именно та оптика, через которую и стоит смотреть на будущее этого мира как минимум какое-то относительно ближайшее время.
Трамп вышел из мирового Соглашения по климату, тем самым заявив, что Земля — никакая не глобальная и не всеобщая, и что некоторые, да-да, хотят занять её побольше, сожрать из неё ресурсов помасштабнее, а на интересы других им, в общем-то, плевать. Долгое время всеобщий призыв к модернизации (качественному росту, толчку вперед, разрыву с костными традициями прошлого) шел рука в руку с идеей глобального и отказом от локального (которое смыслово — маленькое, зажатое в контекстах устаревшего прошлого, анти-прогрессивное). Мир планомерно уничтожал локальное, чтобы поставить вместо него глобальное, некую идею общей земли и общей истории — и если вам кажется, что тут один шажок до колонизации, то вам не кажется: «западные ценности» либеральной демократии считались главенствующими, западный way of life — более предпочитаемым, неким общим знаменателем, к которому вся жизнь на земле в какой-то момент должна придти (путем бомб или экономического давления — не важно). Это был некоторый следующий этап истории, другая история, не та, что была раньше, которая, слава богу, закончилась.
Латур считает, что климатический вопрос — центральный в современной геополитике, именно от того, как он решается (или — не решается) и зависит будущее политики. Вопросы неравенства и несправедливости, глобализации или возвращения к протекционизму национального государства так или иначе утыкаются в Климатический Вопрос: рассматриваем ли мы Землю как общее место или нет, ведем ли мы себя соответственно (строим ли мы некое общее будущее) или нет.
По Латуру, выйдя из Парижского соглашения, Трамп очертил театр военных действий: «Ваша земля может быть под угрозой, наша — нет». У Запада, раньше бывшего неким единым ценностным фронтом, больше нет идеала общего мира.
Великобритания выбрасывается из игры в глобализацию, столкнувшись с необходимостью принять в стране несколько десятков тысяч беженцев. Америка, навязавшая всем специфическую модель глобального мира (глобализация должна была означать умножение точек зрения, американская же модель предполагала создание одной — главной — точки зрения, которую следовало распространить на весь мир), избрала Трампа, решившего превратить страну в крепость, буквально укрепив её границы стеной и поставив во главу политического угла принцип «не помогать никому, кроме себя». Войны, климатические изменения и политические факторы усиливают миграционные потоки — и страны, ранее ратовавшие за стирание границ, теперь спешно их возводят. Есть мигранты, которые вынуждены покидать свои дома — но есть и те, которые, оставаясь у себя дома, чувствуют, что родина покидает их сама. Это создает массовую тревожность — индивидуальную и коллективную.
Кроме того, что это просто забавно, тут есть некоторое сюжетное напряжение — в том, что это не просто смехуевочка, а некоторый документ эпохи.
«Умный-разумный» Запад похихивает с одиозного лидера, чье избрание казалось своего рода дурным анекдотом. Что, однако, стоит понимать (и об этом неплохо пишет Бруно Латур в своем памфлете «Где приземлиться?»), так это то, что избрание Трампа ознаменовало разрыв с идеей Глобальной земли. Метафора стены, которую он хотел построить вокруг Америки — это именно та оптика, через которую и стоит смотреть на будущее этого мира как минимум какое-то относительно ближайшее время.
Трамп вышел из мирового Соглашения по климату, тем самым заявив, что Земля — никакая не глобальная и не всеобщая, и что некоторые, да-да, хотят занять её побольше, сожрать из неё ресурсов помасштабнее, а на интересы других им, в общем-то, плевать. Долгое время всеобщий призыв к модернизации (качественному росту, толчку вперед, разрыву с костными традициями прошлого) шел рука в руку с идеей глобального и отказом от локального (которое смыслово — маленькое, зажатое в контекстах устаревшего прошлого, анти-прогрессивное). Мир планомерно уничтожал локальное, чтобы поставить вместо него глобальное, некую идею общей земли и общей истории — и если вам кажется, что тут один шажок до колонизации, то вам не кажется: «западные ценности» либеральной демократии считались главенствующими, западный way of life — более предпочитаемым, неким общим знаменателем, к которому вся жизнь на земле в какой-то момент должна придти (путем бомб или экономического давления — не важно). Это был некоторый следующий этап истории, другая история, не та, что была раньше, которая, слава богу, закончилась.
Латур считает, что климатический вопрос — центральный в современной геополитике, именно от того, как он решается (или — не решается) и зависит будущее политики. Вопросы неравенства и несправедливости, глобализации или возвращения к протекционизму национального государства так или иначе утыкаются в Климатический Вопрос: рассматриваем ли мы Землю как общее место или нет, ведем ли мы себя соответственно (строим ли мы некое общее будущее) или нет.
По Латуру, выйдя из Парижского соглашения, Трамп очертил театр военных действий: «Ваша земля может быть под угрозой, наша — нет». У Запада, раньше бывшего неким единым ценностным фронтом, больше нет идеала общего мира.
Великобритания выбрасывается из игры в глобализацию, столкнувшись с необходимостью принять в стране несколько десятков тысяч беженцев. Америка, навязавшая всем специфическую модель глобального мира (глобализация должна была означать умножение точек зрения, американская же модель предполагала создание одной — главной — точки зрения, которую следовало распространить на весь мир), избрала Трампа, решившего превратить страну в крепость, буквально укрепив её границы стеной и поставив во главу политического угла принцип «не помогать никому, кроме себя». Войны, климатические изменения и политические факторы усиливают миграционные потоки — и страны, ранее ратовавшие за стирание границ, теперь спешно их возводят. Есть мигранты, которые вынуждены покидать свои дома — но есть и те, которые, оставаясь у себя дома, чувствуют, что родина покидает их сама. Это создает массовую тревожность — индивидуальную и коллективную.
❤16🤔2
(2) Интересно, что это чувство — потеря своей земли — может быть не новым для стран, которые веками были объектами влияния «великих модернизаторов». Но теперь территория самих модернизаторов оказывается захвачена, и это для них новое чувство — которое, пожалуй, может своеобразным образом изменить «постколониальный» конфликт: колонизаторы теряют землю, которую они ранее отняли и других. Наша новая всеобщность, основа для взаимопонимания — это ощущение, что земля уходит из-под ног? Сомнительно, но больше опереться особо не на что.
Люди, не привыкшее к тому, что им чего-то не хватает, не привыкшие отказываться от своих привычек, будут обязаны бороться за каждую мелочь — без каких-либо гарантий. Это — максимально небезопасная ситуация, и естественный ответ на это — построить стену, отгородиться, защитить от посягательств хотя бы то, что осталось. Америка эпохи Трампа это сделала — и теперь, пожалуйста, может из бойницы посмотреть, как суетятся другие, похихикивавшие над угрозой полной энергетической зависимости от другой страны и, как следствие, крушения образа жизни, исходившей от «ничего не понимающего» клоуна.
Что нас ждет в этом замечательном «не-общем» будущем? The usual: дерегулирование; лютый рост неравенства; gated communities; популизм; победы правых инициатив; закрытые границы; демонтаж остатков социального государства; климат-негационизм, который будет усукаблять неравенство и миграционные потоки, которые будут усукаблять необщность будущего — и так далее, цепной круг реакции на реакции.
Можно было бы найти какие-то позитивные стороны в уходе от шарады глобализации к локальному — преемственности, идентичности, надежности, связям. На деле, конечно, это точно такая же мало реальная конструкция, ретроспективное переизобретение истории внутри нарисованных национальных или этнических границ: Польша Качиньского или Италия Северного Лиги не более реальный ориентир, чем мейк америка грейт эген или российская империя.
Латур — еврооптимист. Он верит, что потенциал ЕС — в объединении стран, отказавшихся от имперских амбиций (на другой стороне — Америка Трампа, Великобритания Брексита, Турция, Китай и Россия). Это, считает он, прямое следствие европейских преступлений — в первую очередь, колониализма (уничтожение чужих культур и захват их земли ради культа «цивилизации»). Европа не может прикинуться невинной — стереть историю и начать все заново. Любой анти-миграционный посыл типа «они захватывают наши дома» в Европе не может получить настоящую силу, ведь Европа сама заселила чужие земли, насадив там собственный образ жизни — лицемерие слишком очевидно. И все же Европе удалось сохранить свои государства, языки, культуры и «деревни» — свое локальное, не ставшее эрзац-историей. Ядерный и смысловой зонт Америки (по Латуру) должен быть сложен, а сама Европа, выйдя из гонки глобализации и модернизации, должна стать THE локальной провинцией мира, показав остальным, что жизнь вне постоянного накручивания прогресса возможна. Ура-оптимизм Латура заразителен, но сейчас особенно сомнителен — идея, однако, хорошая, лучше многих.
Люди, не привыкшее к тому, что им чего-то не хватает, не привыкшие отказываться от своих привычек, будут обязаны бороться за каждую мелочь — без каких-либо гарантий. Это — максимально небезопасная ситуация, и естественный ответ на это — построить стену, отгородиться, защитить от посягательств хотя бы то, что осталось. Америка эпохи Трампа это сделала — и теперь, пожалуйста, может из бойницы посмотреть, как суетятся другие, похихикивавшие над угрозой полной энергетической зависимости от другой страны и, как следствие, крушения образа жизни, исходившей от «ничего не понимающего» клоуна.
Что нас ждет в этом замечательном «не-общем» будущем? The usual: дерегулирование; лютый рост неравенства; gated communities; популизм; победы правых инициатив; закрытые границы; демонтаж остатков социального государства; климат-негационизм, который будет усукаблять неравенство и миграционные потоки, которые будут усукаблять необщность будущего — и так далее, цепной круг реакции на реакции.
Можно было бы найти какие-то позитивные стороны в уходе от шарады глобализации к локальному — преемственности, идентичности, надежности, связям. На деле, конечно, это точно такая же мало реальная конструкция, ретроспективное переизобретение истории внутри нарисованных национальных или этнических границ: Польша Качиньского или Италия Северного Лиги не более реальный ориентир, чем мейк америка грейт эген или российская империя.
Латур — еврооптимист. Он верит, что потенциал ЕС — в объединении стран, отказавшихся от имперских амбиций (на другой стороне — Америка Трампа, Великобритания Брексита, Турция, Китай и Россия). Это, считает он, прямое следствие европейских преступлений — в первую очередь, колониализма (уничтожение чужих культур и захват их земли ради культа «цивилизации»). Европа не может прикинуться невинной — стереть историю и начать все заново. Любой анти-миграционный посыл типа «они захватывают наши дома» в Европе не может получить настоящую силу, ведь Европа сама заселила чужие земли, насадив там собственный образ жизни — лицемерие слишком очевидно. И все же Европе удалось сохранить свои государства, языки, культуры и «деревни» — свое локальное, не ставшее эрзац-историей. Ядерный и смысловой зонт Америки (по Латуру) должен быть сложен, а сама Европа, выйдя из гонки глобализации и модернизации, должна стать THE локальной провинцией мира, показав остальным, что жизнь вне постоянного накручивания прогресса возможна. Ура-оптимизм Латура заразителен, но сейчас особенно сомнителен — идея, однако, хорошая, лучше многих.
❤9🤔2
(3) Никакое знание, сколь бы ни было оно подтвержденным, не сохраняется само по себе. Факты имеют силу, лишь если они поддерживаются общей культурой, институтами, которым можно доверять, более или менее достойной публичной жизнью, более или менее достоверными средствами массовой информации.
<…>
Реакция средств массовой информации на происходящее доказывает, что ничуть не в лучшем положении находятся те, кто гордится своей верностью «рациональному кредо» и возмущается безразличием к фактам короля Убю (Дональда Трампа) или клеймит глупость невежественных масс. Поступающие так продолжают верить, что факты сильны сами по себе, вне зависимости от качества разделяемого мира, институтов, публичной жизни, что достаточно было бы собрать людей в старой доброй аудитории с черной доской и стопкой тетрадей на столе, чтобы разум вновь восторжествовал.
<…>
Вопрос не в том, как исправить недомыслие, а в том, как всем вместе жить в одном мире, разделять одну культуру, отвечать на одни вызовы, исследовать один пейзаж. Вновь заявляет о себе извечный порок эпистемологии, списывающий на нехватку интеллекта то, что является следствием нехватки разделяемой практики.
Бруно Латур
<…>
Реакция средств массовой информации на происходящее доказывает, что ничуть не в лучшем положении находятся те, кто гордится своей верностью «рациональному кредо» и возмущается безразличием к фактам короля Убю (Дональда Трампа) или клеймит глупость невежественных масс. Поступающие так продолжают верить, что факты сильны сами по себе, вне зависимости от качества разделяемого мира, институтов, публичной жизни, что достаточно было бы собрать людей в старой доброй аудитории с черной доской и стопкой тетрадей на столе, чтобы разум вновь восторжествовал.
<…>
Вопрос не в том, как исправить недомыслие, а в том, как всем вместе жить в одном мире, разделять одну культуру, отвечать на одни вызовы, исследовать один пейзаж. Вновь заявляет о себе извечный порок эпистемологии, списывающий на нехватку интеллекта то, что является следствием нехватки разделяемой практики.
Бруно Латур
❤13🤔3🤯2
Пусть Тайка Вайтити снимет такой сериал, что ли!
Forwarded from prometa.pro книжки
Это древняя шутка про статистическую опасность занятий статистической механикой, но смешная.
Мне всегда напоминает историю о цепочке укоряющих стихотворений в адрес большого поэта, покончившего с собой - Есенин повесился, Маяковский написал "в этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней", а потом застрелился, Цветаева написала им обоим "Стыдно, Володя, стыдно, Сережа", а потом повесилась. Можно сочинить готическую новеллу о поэте, который чувствует, как через него рвется стихотворение на смерь Цветаевой, он его пишет, а потом долго пытается снять проклятье, периодически обнаруживая себя то в ванне с бритвой в руках, то на подоконнике. Но потом пусть уж выживет, тяга к трагическому пафосу и так много бед принесла.
Мне всегда напоминает историю о цепочке укоряющих стихотворений в адрес большого поэта, покончившего с собой - Есенин повесился, Маяковский написал "в этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней", а потом застрелился, Цветаева написала им обоим "Стыдно, Володя, стыдно, Сережа", а потом повесилась. Можно сочинить готическую новеллу о поэте, который чувствует, как через него рвется стихотворение на смерь Цветаевой, он его пишет, а потом долго пытается снять проклятье, периодически обнаруживая себя то в ванне с бритвой в руках, то на подоконнике. Но потом пусть уж выживет, тяга к трагическому пафосу и так много бед принесла.
🔥26❤8😱4
Написала первый за долгое время пост про контент для Лобби. У меня между философией и геймдевом мало что сейчас пролетает, но все-таки какую-то художку я читаю, какие-то сериалы я смотрю (и не все они — пересмотр на повторе «Бруклин 9-9», да-да). Продолжать писать про контент, получается?
Forwarded from Лесбийское лобби (Ekaterina Kudryavtseva)
🍺 Ну что, возвращаем посты про контент?
Недавно посмотрела небольшой сезончик «сериала про пиратов» Дэвида Дженкинса и Тайки Вайтити Our Flag Means Death, где основной нерв сюжета проходит через отношения Черной Бороды (played by Taika himself) и Стида Боннета, идеалистически настроенного эмоционального пупусечки, решившего стать пиратом (played by дружбан Тайки Рис Дэрби).
Скорее всего, первые три серии вы будете думать, зачем вы здесь. Все в этом сериале Очень Просто: Стид Боннет, оторванный от реальности добряк-богатей, в один прекрасный день решает бросить нелюбимую жену и не очень-то любимых детей (чувство нелюбви взаимно в обоих случаях) и стать пиратом. Он строит себе корабль (да-да, он действительно богатый чел!), нанимает каких-то оболтусов в команду и отправляется в море. Его манит жизнь, полная приключений — как настоящий белый турист в дикой стране, он окружает себя своими привычками (например, на корабле он делает огромную библиотеку и выделяет целую комнату для хранения одежды на все случаи социальной жизни) и пытается научить «туземцев» жить цивилизованной жизнью.
Но потом сериал расцветает — из-за двух вещей.
Во-первых, стилизация: это, конечно, сериал про пиратов, но все говорят на довольно современном языке и попадают в довольно современные ситуации. Например, забота Боннета о пиратах явно скопирована из современных корпоративных методичек: он платит пиратам зарплату (потому что так они могут не переживать о завтрашнем дне!), призывает их разговаривать о своих чувствах и не считает, что насилие и жестокость — это разумный способ решать проблемы. Это само по себе — дивное подспорье, но такое полное несовпадение сеттингов работает очень хорошо: есть максимально маскулинный, жестокий и кровавый мир, а есть разговоры о чувствах и герои, которые постепенно показывают себя ранимыми, тонко чувствующими и открытыми людьми.
Во-вторых, конечно, Черная борода. Он появляется после третьей серии (как и ГЛАВНЫЙ смысл этого сериала). Он мрачен, суров и опасен, но он устал быть собой и думает — а не стать ли ему кем-то другим? Ему встречается Стид, который максимально, ультимативно что-то другое, но вместо того, чтобы его уничтожить (как полагалось бы по законам жанра), Черная борода в него влюбляется, и сериал разворачивается к своей главной идее: что главная в жизни смелость, храбрость, мужественность и авантюризм — не в захвате чужих кораблей и схватках на саблях, а в том, чтобы сбросить броню, открыть другому свое сердце и решиться его полюбить.
Есть ли риск после просмотра этого сериала превратиться в воющую картофелину любви и свуна? Ну, да, я вот превратилась.
Единственный минус, который я нахожу в этом рассаднике любви, квиров и погнутых стереотипов — это отсутствие женщин, любящих женщин, но я буду надеяться, что во втором сезоне эта глупость будет исправлена. Например, зачем отличный небинарный персонаж Джим, я считаю, совершенно напрасно застрял в отношениях с добрым пиратиком? Непонятно. Почему жена Стида не лесбиянка? Упущенные возможности!
Про концовку сезона всем смотревшим предлагается проораться в комментариях, потому что прошло уже несколько недель, А Я ВСЕ ЕЩЕ НЕ МОГУ МОЧЬ НУ КТО ТАК ДЕЛАЕТ.
Недавно посмотрела небольшой сезончик «сериала про пиратов» Дэвида Дженкинса и Тайки Вайтити Our Flag Means Death, где основной нерв сюжета проходит через отношения Черной Бороды (played by Taika himself) и Стида Боннета, идеалистически настроенного эмоционального пупусечки, решившего стать пиратом (played by дружбан Тайки Рис Дэрби).
Скорее всего, первые три серии вы будете думать, зачем вы здесь. Все в этом сериале Очень Просто: Стид Боннет, оторванный от реальности добряк-богатей, в один прекрасный день решает бросить нелюбимую жену и не очень-то любимых детей (чувство нелюбви взаимно в обоих случаях) и стать пиратом. Он строит себе корабль (да-да, он действительно богатый чел!), нанимает каких-то оболтусов в команду и отправляется в море. Его манит жизнь, полная приключений — как настоящий белый турист в дикой стране, он окружает себя своими привычками (например, на корабле он делает огромную библиотеку и выделяет целую комнату для хранения одежды на все случаи социальной жизни) и пытается научить «туземцев» жить цивилизованной жизнью.
Но потом сериал расцветает — из-за двух вещей.
Во-первых, стилизация: это, конечно, сериал про пиратов, но все говорят на довольно современном языке и попадают в довольно современные ситуации. Например, забота Боннета о пиратах явно скопирована из современных корпоративных методичек: он платит пиратам зарплату (потому что так они могут не переживать о завтрашнем дне!), призывает их разговаривать о своих чувствах и не считает, что насилие и жестокость — это разумный способ решать проблемы. Это само по себе — дивное подспорье, но такое полное несовпадение сеттингов работает очень хорошо: есть максимально маскулинный, жестокий и кровавый мир, а есть разговоры о чувствах и герои, которые постепенно показывают себя ранимыми, тонко чувствующими и открытыми людьми.
Во-вторых, конечно, Черная борода. Он появляется после третьей серии (как и ГЛАВНЫЙ смысл этого сериала). Он мрачен, суров и опасен, но он устал быть собой и думает — а не стать ли ему кем-то другим? Ему встречается Стид, который максимально, ультимативно что-то другое, но вместо того, чтобы его уничтожить (как полагалось бы по законам жанра), Черная борода в него влюбляется, и сериал разворачивается к своей главной идее: что главная в жизни смелость, храбрость, мужественность и авантюризм — не в захвате чужих кораблей и схватках на саблях, а в том, чтобы сбросить броню, открыть другому свое сердце и решиться его полюбить.
Есть ли риск после просмотра этого сериала превратиться в воющую картофелину любви и свуна? Ну, да, я вот превратилась.
Единственный минус, который я нахожу в этом рассаднике любви, квиров и погнутых стереотипов — это отсутствие женщин, любящих женщин, но я буду надеяться, что во втором сезоне эта глупость будет исправлена. Например, зачем отличный небинарный персонаж Джим, я считаю, совершенно напрасно застрял в отношениях с добрым пиратиком? Непонятно. Почему жена Стида не лесбиянка? Упущенные возможности!
Про концовку сезона всем смотревшим предлагается проораться в комментариях, потому что прошло уже несколько недель, А Я ВСЕ ЕЩЕ НЕ МОГУ МОЧЬ НУ КТО ТАК ДЕЛАЕТ.
❤19
Шанталь Муфф в книге «Agonistics» о том, почему «права человека» — не универсальное понятие, и насаждение его в качестве такого — скорее опасное мероприятие.
То, что западная культура называет «правами человека», на самом деле является специфической для этой культуры формой утверждения (признания) достоинства человека, и было бы самонадеянно объявлять её единственно легитимной. Многие теоретики отмечали, что сама формулировка этого концепта в терминах «прав» лежит в пространстве морали, что может подходить для современного либерального индивидуализма, но будет неприемлемым для решения вопроса о человеческом достоинстве в других культурах.
Например, как пишет Франсуа Жульен, идея «прав» ставит во главу угла освобождение субъекта от его жизненных контекстов и не признаёт ценность его интегрированность в множество социальных связей. Это — защитный подход, который отказывается от религиозного измерения и представляет личность как абсолют. Жульен отмечает, что концепция «права человека» не находит отклика в мышлении классической Индии, где человека не представляют изолированным от природного мира. Если в европейской культуре главным словом является «свобода», то на Востоке от Индии до Китая это — «гармония».
Придерживаясь того же направления мысли, Паниккар иллюстрирует, что концепция прав человека опирается на хорошо известный набор предпосылок, все из которых являются определенно западными. Он описывает эти предпосылки следующим образом: существует универсальная человеческая природа, которую можно познать рациональными методами; человеческая природа существенно отличается от остальной реальности и выше ее; индивид обладает абсолютным и несокрушимым достоинством, которое необходимо защищать от общества и государства; автономия этого индивида требует, чтобы общество было организовано неиерархическим образом, как сумма свободных индивидов. Все эти предпосылки, утверждает Паниккар, являются определенно западными и либеральными и отличаются от других концепций человеческого достоинства в других культурах. Например, в них нет обязательного пересечения идеи «личности» и идеи «индивидуального». «Индивидуальное» — это специфический способ, которым западный либеральный дискурс формулирует концепцию «я». Однако в других культурах «я» (самость) рассматривается по-разному.
Из этих соображений вытекают многие последствия. Одним из наиболее важных является то, что мы должны признать, что идея «автономии», которая занимает центральное место в западном либеральном дискурсе и которая находится в центре нашего понимания прав человека, не имеет такого же приоритета в других культурах, где процесс принятия решений менее индивидуалистичен и более кооперативен. Это не означает, что эти культуры не заботятся о достоинстве личности и условиях справедливого общественного устройства. Это означает, что они решают эти вопросы по-другому.
То, что западная культура называет «правами человека», на самом деле является специфической для этой культуры формой утверждения (признания) достоинства человека, и было бы самонадеянно объявлять её единственно легитимной. Многие теоретики отмечали, что сама формулировка этого концепта в терминах «прав» лежит в пространстве морали, что может подходить для современного либерального индивидуализма, но будет неприемлемым для решения вопроса о человеческом достоинстве в других культурах.
Например, как пишет Франсуа Жульен, идея «прав» ставит во главу угла освобождение субъекта от его жизненных контекстов и не признаёт ценность его интегрированность в множество социальных связей. Это — защитный подход, который отказывается от религиозного измерения и представляет личность как абсолют. Жульен отмечает, что концепция «права человека» не находит отклика в мышлении классической Индии, где человека не представляют изолированным от природного мира. Если в европейской культуре главным словом является «свобода», то на Востоке от Индии до Китая это — «гармония».
Придерживаясь того же направления мысли, Паниккар иллюстрирует, что концепция прав человека опирается на хорошо известный набор предпосылок, все из которых являются определенно западными. Он описывает эти предпосылки следующим образом: существует универсальная человеческая природа, которую можно познать рациональными методами; человеческая природа существенно отличается от остальной реальности и выше ее; индивид обладает абсолютным и несокрушимым достоинством, которое необходимо защищать от общества и государства; автономия этого индивида требует, чтобы общество было организовано неиерархическим образом, как сумма свободных индивидов. Все эти предпосылки, утверждает Паниккар, являются определенно западными и либеральными и отличаются от других концепций человеческого достоинства в других культурах. Например, в них нет обязательного пересечения идеи «личности» и идеи «индивидуального». «Индивидуальное» — это специфический способ, которым западный либеральный дискурс формулирует концепцию «я». Однако в других культурах «я» (самость) рассматривается по-разному.
Из этих соображений вытекают многие последствия. Одним из наиболее важных является то, что мы должны признать, что идея «автономии», которая занимает центральное место в западном либеральном дискурсе и которая находится в центре нашего понимания прав человека, не имеет такого же приоритета в других культурах, где процесс принятия решений менее индивидуалистичен и более кооперативен. Это не означает, что эти культуры не заботятся о достоинстве личности и условиях справедливого общественного устройства. Это означает, что они решают эти вопросы по-другому.
❤13🤔9
Муфф дальше пишет, что мы должны увидеть в европейском захвате прилагательного «современное/модерн» (modern) неотъемлемую часть истории империализма Европы, и представление западной формы демократии как «современной», то есть воспоследовавшей за всеми предыдущими формами, и потому универсально (то есть для всех) наилучшей — это риторическое орудие для установления главенства своей формы рациональности, и, в итоге, попросту циничный империализм.
Даже интересно, куда собирается рулить Муфф дальше 🗿
Даже интересно, куда собирается рулить Муфф дальше 🗿
🔥5🤔2
Эрнст Юнгер, «Уход в лес»:
Как и все стратегические фигуры, «котёл» являет нам точный образ эпохи, стремящейся прояснить свои вопросы огнём. Безвыходное окружение человека давно уже подготовлено в первую очередь теориями, стремящимися к логичному и исчерпывающему объяснению мира и идущим рука об руку с техническим прогрессом. Вначале противник попадает в рациональный, а вслед за тем и в социальный «котёл»; кольцо замыкается, и наступает час истребления. Нет безнадежнее доли, чем быть затянутым туда, где даже право превратилось в оружие.
Well, that hurts!
Как и все стратегические фигуры, «котёл» являет нам точный образ эпохи, стремящейся прояснить свои вопросы огнём. Безвыходное окружение человека давно уже подготовлено в первую очередь теориями, стремящимися к логичному и исчерпывающему объяснению мира и идущим рука об руку с техническим прогрессом. Вначале противник попадает в рациональный, а вслед за тем и в социальный «котёл»; кольцо замыкается, и наступает час истребления. Нет безнадежнее доли, чем быть затянутым туда, где даже право превратилось в оружие.
Well, that hurts!
🤔7🔥2😱1
Это никому неинтересно, но я «перезапускаю» этот канал.
Изначально он начинался как способ записывать свои впечатления и мысли вокруг книг, игр и сериалов. Потом я писала просто обо всем, что мне интересно: об искусстве, феминизме, нейронауках, философии в контексте каких-то культурных артефактов. В этом не было никакой особой системы, как бы я не пыталась её придумать.
В общем, дальше её не будет тоже, просто я больше не буду пытаться её придумывать. Я буду продолжать писать о том, что мне интересно, просто шире, чем «вроде культура». Я снова понижу планку (хотя КАЗАЛОСЬ БЫ), и не буду ждать, пока фея времени и вдохновения озарит меня своим присутствием и поможет написать проверенный и многосторонний лонгрид с понятным заголовком (все равно это у меня не получалось сделать уже давно).
Теперь это будет канал цитат, записок, соображений и раздумий на темы: #политфилософия #буддизм #писательство #коучинг и #геймдизайн. Это то, что меня сейчас живо интересует (и я подразумеваю, конечно, что в какой-то момент этот набор изменится, но пока — так).
#политфилософия. Это образование. Я поступила на годовую программу по политической философии в Шанинку. Буду много читать (а значит — сыпать цитатами и конспектами) и высказывать свое мерзкое мнение, а также писать кучу эссе и диссертацию, так что этого будет…много. Я вернулась в формальную академию, чтобы причесать и систематизировать свою мысль, так что это — важнецкая сейчас для меня задача.
#буддизм. Это этика. Больше года я читаю книги о философии и этике буддизма (бессистемно и без привязки к конкретной школе). Я хочу периодически писать об идеях и смыслах, которые меня там цепляют — на данный момент мое увлечение скорее интеллектуальное / духовное (и полностью светское), но, возможно, про практику тоже что-то будет.
#писательство. Это отдушина. Я отказалась от фантазий об актуальном / злободневном / «качественном» (условный термин) письме, и в итоге пишу для удовольствия — сейчас это лесбийский магический реализм в современной России. Что вы мне сделаете, я в другом городе. Иногда у меня бывают мысли про письмо — но это скорее редкость.
#коучинг. Это практика. Я напишу об этом отдельный пост, вкратце: я занимаюсь персональным коучингом по формату ICF, и это своего рода помогающая практика для решения практических, ценностных и смысловых вопросов в жизни. Это метод думания и изменения (думания), и его можно применять довольно широко, поэтому об этом тоже кое-что будет.
#геймдизайн. Это, может быть, работа, но пока — тоже образование. А еще своего рода юношеская мечта, которую я проверяю на прочность :) Нужно осознать, что там у меня происходит, поэтому задумчивости и интересности на эту тему тоже могут свалиться в этот бедный, эклектичный, мультипотенциальный канал.
А еще я остаюсь ЛГБТ-человеком, который живет в России, так что тут уж без иллюзий.
Все? Вроде все. Приветствуются лайки, комментарии, вопросы, отписки и другие самостоятельно принятые решения, потому следующим постом полетит конспект 💀
Изначально он начинался как способ записывать свои впечатления и мысли вокруг книг, игр и сериалов. Потом я писала просто обо всем, что мне интересно: об искусстве, феминизме, нейронауках, философии в контексте каких-то культурных артефактов. В этом не было никакой особой системы, как бы я не пыталась её придумать.
В общем, дальше её не будет тоже, просто я больше не буду пытаться её придумывать. Я буду продолжать писать о том, что мне интересно, просто шире, чем «вроде культура». Я снова понижу планку (хотя КАЗАЛОСЬ БЫ), и не буду ждать, пока фея времени и вдохновения озарит меня своим присутствием и поможет написать проверенный и многосторонний лонгрид с понятным заголовком (все равно это у меня не получалось сделать уже давно).
Теперь это будет канал цитат, записок, соображений и раздумий на темы: #политфилософия #буддизм #писательство #коучинг и #геймдизайн. Это то, что меня сейчас живо интересует (и я подразумеваю, конечно, что в какой-то момент этот набор изменится, но пока — так).
#политфилософия. Это образование. Я поступила на годовую программу по политической философии в Шанинку. Буду много читать (а значит — сыпать цитатами и конспектами) и высказывать свое мерзкое мнение, а также писать кучу эссе и диссертацию, так что этого будет…много. Я вернулась в формальную академию, чтобы причесать и систематизировать свою мысль, так что это — важнецкая сейчас для меня задача.
#буддизм. Это этика. Больше года я читаю книги о философии и этике буддизма (бессистемно и без привязки к конкретной школе). Я хочу периодически писать об идеях и смыслах, которые меня там цепляют — на данный момент мое увлечение скорее интеллектуальное / духовное (и полностью светское), но, возможно, про практику тоже что-то будет.
#писательство. Это отдушина. Я отказалась от фантазий об актуальном / злободневном / «качественном» (условный термин) письме, и в итоге пишу для удовольствия — сейчас это лесбийский магический реализм в современной России. Что вы мне сделаете, я в другом городе. Иногда у меня бывают мысли про письмо — но это скорее редкость.
#коучинг. Это практика. Я напишу об этом отдельный пост, вкратце: я занимаюсь персональным коучингом по формату ICF, и это своего рода помогающая практика для решения практических, ценностных и смысловых вопросов в жизни. Это метод думания и изменения (думания), и его можно применять довольно широко, поэтому об этом тоже кое-что будет.
#геймдизайн. Это, может быть, работа, но пока — тоже образование. А еще своего рода юношеская мечта, которую я проверяю на прочность :) Нужно осознать, что там у меня происходит, поэтому задумчивости и интересности на эту тему тоже могут свалиться в этот бедный, эклектичный, мультипотенциальный канал.
А еще я остаюсь ЛГБТ-человеком, который живет в России, так что тут уж без иллюзий.
Все? Вроде все. Приветствуются лайки, комментарии, вопросы, отписки и другие самостоятельно принятые решения, потому следующим постом полетит конспект 💀
❤60🔥10
#политфилософия #конспект #постколониализм
(1) Кто: Франц Фанон (1925-1961) — франкоязычный вест-индский революционер, социальный философ и психоаналитик. Один из теоретиков и идейных вдохновителей движения новых левых и революционной борьбы за деколонизацию в странах Третьего мира. У Фанона была белая эльзасская бабушка (некая белая женщина признала африканца достойным — важный сюжет). Жил на Мартинике (то есть имел французский паспорт, но столкнулся с тем, что он, конечно, не равен белому человеку с тем же паспортом). Был во французской армии во время Второй мировой, но освобождать города во Франции ему (и другим солдатам с его цветом кожи) уже не дали — потому что не хотели, чтобы немецкая пропаганда оказалась права — мол, монстры на службе объединенных сил, — и немцы бы дольше сопротивлялись (sic). Поехал в Алжир, работал психотерапевтом, насмотрелся на жертв пыток из освободительного движения. Присоединился к освободительному движению, порвал с ассимиляционным воспитанием, был выдворен из Алжира. Потом заболел лейкемией, лечился в СССР (успешно) и в США (безуспешно). Умер в Америке (считал, что американские врачи «залечили» его из-за цвета кожи) принявшим ислам радикальным мыслителем Ибрагимом Фаноном в 36 лет.
Что: Статья/глава из книги Les Damnés de la terre «О насилии» (издан посмертно).
В чем идея: борьба с колониализмом — это неизбежный беспорядок, хаос и насилие. Освобождение колоний — итог встречи двух сил, отношения которых возникли в результате насилия и поддерживались с помощью насилия. Колонизатор принес в колонию неприкрытое, явное, неизбежное насилие, и контр-мера лишь аналогична по силе, и также неизбежна.
Насилие — суть колониального режима, оно неизбежно
Чтобы преобразовать общественный организм, нужно разработать программу и сметать любые препятствия на пути к ней. Житель колоний, окруженный запретами, всегда готов покинуть этот замкнутый мир с помощью насилия.
Насилие, считает Фанон, существует везде: но в капиталистическом мире оно скрыто за системой образования, светской или церковной, нравственными наследственными рефлексами, честностью рабочих, которых за 50 дет службы награждают медалькой, и другими эстетическими проявлениями уважения к порядку. В колониях насилие на поверхности: это полицейские и солдаты, которые всегда готовы поучаствовать. Колонизатор сам приносит идею насилия и практику насилия в сознание местных жителей.
«Вы не найдете ни одного угнетенного жителя, который бы не грезил о том, чтобы хотя бы на день оказаться на месте белого человека» — Фанон строит тезис о том, что колонизаторы не зря боятся того, что «они займут наше место». Потому что так и будет, именно такое желание у местного жителя и есть.
Колониальный мир разбит на две части, которые занимают люди разного вида. Нужно принадлежать к избранной расе, чтобы хорошо жить, вот и все. Это колониальная экономическая сверхструктура. Колонизатор всегда — иностранец. Подорвать колониальный режим — значит уничтожить один из лагерей, изгнать его из страны.
(1) Кто: Франц Фанон (1925-1961) — франкоязычный вест-индский революционер, социальный философ и психоаналитик. Один из теоретиков и идейных вдохновителей движения новых левых и революционной борьбы за деколонизацию в странах Третьего мира. У Фанона была белая эльзасская бабушка (некая белая женщина признала африканца достойным — важный сюжет). Жил на Мартинике (то есть имел французский паспорт, но столкнулся с тем, что он, конечно, не равен белому человеку с тем же паспортом). Был во французской армии во время Второй мировой, но освобождать города во Франции ему (и другим солдатам с его цветом кожи) уже не дали — потому что не хотели, чтобы немецкая пропаганда оказалась права — мол, монстры на службе объединенных сил, — и немцы бы дольше сопротивлялись (sic). Поехал в Алжир, работал психотерапевтом, насмотрелся на жертв пыток из освободительного движения. Присоединился к освободительному движению, порвал с ассимиляционным воспитанием, был выдворен из Алжира. Потом заболел лейкемией, лечился в СССР (успешно) и в США (безуспешно). Умер в Америке (считал, что американские врачи «залечили» его из-за цвета кожи) принявшим ислам радикальным мыслителем Ибрагимом Фаноном в 36 лет.
Что: Статья/глава из книги Les Damnés de la terre «О насилии» (издан посмертно).
В чем идея: борьба с колониализмом — это неизбежный беспорядок, хаос и насилие. Освобождение колоний — итог встречи двух сил, отношения которых возникли в результате насилия и поддерживались с помощью насилия. Колонизатор принес в колонию неприкрытое, явное, неизбежное насилие, и контр-мера лишь аналогична по силе, и также неизбежна.
Насилие — суть колониального режима, оно неизбежно
Чтобы преобразовать общественный организм, нужно разработать программу и сметать любые препятствия на пути к ней. Житель колоний, окруженный запретами, всегда готов покинуть этот замкнутый мир с помощью насилия.
Насилие, считает Фанон, существует везде: но в капиталистическом мире оно скрыто за системой образования, светской или церковной, нравственными наследственными рефлексами, честностью рабочих, которых за 50 дет службы награждают медалькой, и другими эстетическими проявлениями уважения к порядку. В колониях насилие на поверхности: это полицейские и солдаты, которые всегда готовы поучаствовать. Колонизатор сам приносит идею насилия и практику насилия в сознание местных жителей.
«Вы не найдете ни одного угнетенного жителя, который бы не грезил о том, чтобы хотя бы на день оказаться на месте белого человека» — Фанон строит тезис о том, что колонизаторы не зря боятся того, что «они займут наше место». Потому что так и будет, именно такое желание у местного жителя и есть.
Колониальный мир разбит на две части, которые занимают люди разного вида. Нужно принадлежать к избранной расе, чтобы хорошо жить, вот и все. Это колониальная экономическая сверхструктура. Колонизатор всегда — иностранец. Подорвать колониальный режим — значит уничтожить один из лагерей, изгнать его из страны.
#политфилософия #конспект #постколониализм
(2) Ценности колонизатора — ложь, ведь сам он их постоянно нарушает
Колонизатор представляет местного жителя как квинтэссенцию зла: местный житель = враг всяких ценностей. Любые ценности извращаются, стоит им соприкоснуться с живущими в колониях. Они не утеряли «правильные» ценности — они на них не способны. Обычаи местных, их боги и мифы указывают на духовную нищету и безнравственность. Местный житель расчеловечен, превращен в животное.
«Насилие, при помощи которого утверждается превосходство ценностей белого человека, и открытая агрессивность, обеспечивающая победу этих ценностей над образом жизни и мышления местного жителя, приводят к тому, что для местного жителя западные ценности, о которых распинаются перед ними, становятся предметом насмешки».
В процессе освобождения местный житель чувствует, что обязан сбросить ценности захватчика. Борьба за независимость — это не борьба «за какие-то ценности», это борьба против колонизатора, борьба за исключение его из своей картины мира. Разговор о ценностях абстрактен, разговор о свободе от побоев и земле — первичен, в этом появляется чувство собственного достоинства человека, которого колониальный режим лишает.
Колониальная буржуазия внедрила в умы местных интеллигентов мысль: основные ценности остаются вечными, какие бы грубые ошибки люди не совершали. Речь идет, разумеется, об основных ценностях западной цивилизации. Выросший в колониях интеллигент принимает это за аксиому. Поэтому в тайниках его подсознания вы всегда найдете бдительного стража, готового в любую минуту броситься на защиту греко-латинских основ Запада. Эти ценности ничего не стоят, потому что они не в состоянии помочь решению конфликта, который оказались вовлечены люди.
Первым должен исчезнуть индивидуализм, замыкающий человека в пространстве собственной субъектности.
Правда — инструмент борьбы. Правдой всегда будет только то, что плохо для «них» (с обеих сторон).
Колонизатор живет нарративом творца истории: эта земля была создана нами, мы уйдем и она обратится в отсталость. Он — вечно действующая причина. Он ссылается на историю своей страны и чувствует себя продолжением отечества. История, которую он пишет — не история страны, которую он грабит, а история его собственной нации, которая применяет насилие и морит людей голодом.
Местный житель может освободиться, лишь дав начало движению истории своей нации, истории завоевания независимости.
Психоаналитическая пятиминутка
Агрессивность, напряжение и фрустрацию местный житель сначала выплескивает на свое окружение. Он мечтает заменить колонизатора в мире, который относится к нему как к туземцу. Это порождает напряжение.
Местный житель живет в окружении границ и чужих смыслов белого человека, и он никогда не может быть уверен в том, что не пересек границу. Местный житель виновен, но свою вину он не признает, виновным себя не считает. Ему не остается ничего другого, как защищать свою индивидуальность хотя бы перед лицом своего брата. Окунаясь в кровную месть, местный житель убеждает себя, что колониализма нет, старые правила действуют. Он интернализирует отношение колонизатора — мол, мне самому такое досталось, ибо Бог так решил. Он смиряется с расщепленностью мира.
Но время идет, и местный житель учится сдерживать агрессию. Вокруг него формируется магическая сверхструктура — мир наполнен опасностью и демонами, потаенными желаниями и ужасом. Бессознательное рулит. Миф и магия приобретают форму несомненной реальности. Зомби куда страшнее колонизаторов. Сюда же — традиции ритуалов, массовых танцев, почти оргий (выход для эмоций).
(2) Ценности колонизатора — ложь, ведь сам он их постоянно нарушает
Колонизатор представляет местного жителя как квинтэссенцию зла: местный житель = враг всяких ценностей. Любые ценности извращаются, стоит им соприкоснуться с живущими в колониях. Они не утеряли «правильные» ценности — они на них не способны. Обычаи местных, их боги и мифы указывают на духовную нищету и безнравственность. Местный житель расчеловечен, превращен в животное.
«Насилие, при помощи которого утверждается превосходство ценностей белого человека, и открытая агрессивность, обеспечивающая победу этих ценностей над образом жизни и мышления местного жителя, приводят к тому, что для местного жителя западные ценности, о которых распинаются перед ними, становятся предметом насмешки».
В процессе освобождения местный житель чувствует, что обязан сбросить ценности захватчика. Борьба за независимость — это не борьба «за какие-то ценности», это борьба против колонизатора, борьба за исключение его из своей картины мира. Разговор о ценностях абстрактен, разговор о свободе от побоев и земле — первичен, в этом появляется чувство собственного достоинства человека, которого колониальный режим лишает.
Колониальная буржуазия внедрила в умы местных интеллигентов мысль: основные ценности остаются вечными, какие бы грубые ошибки люди не совершали. Речь идет, разумеется, об основных ценностях западной цивилизации. Выросший в колониях интеллигент принимает это за аксиому. Поэтому в тайниках его подсознания вы всегда найдете бдительного стража, готового в любую минуту броситься на защиту греко-латинских основ Запада. Эти ценности ничего не стоят, потому что они не в состоянии помочь решению конфликта, который оказались вовлечены люди.
Первым должен исчезнуть индивидуализм, замыкающий человека в пространстве собственной субъектности.
Правда — инструмент борьбы. Правдой всегда будет только то, что плохо для «них» (с обеих сторон).
Колонизатор живет нарративом творца истории: эта земля была создана нами, мы уйдем и она обратится в отсталость. Он — вечно действующая причина. Он ссылается на историю своей страны и чувствует себя продолжением отечества. История, которую он пишет — не история страны, которую он грабит, а история его собственной нации, которая применяет насилие и морит людей голодом.
Местный житель может освободиться, лишь дав начало движению истории своей нации, истории завоевания независимости.
Психоаналитическая пятиминутка
Агрессивность, напряжение и фрустрацию местный житель сначала выплескивает на свое окружение. Он мечтает заменить колонизатора в мире, который относится к нему как к туземцу. Это порождает напряжение.
Местный житель живет в окружении границ и чужих смыслов белого человека, и он никогда не может быть уверен в том, что не пересек границу. Местный житель виновен, но свою вину он не признает, виновным себя не считает. Ему не остается ничего другого, как защищать свою индивидуальность хотя бы перед лицом своего брата. Окунаясь в кровную месть, местный житель убеждает себя, что колониализма нет, старые правила действуют. Он интернализирует отношение колонизатора — мол, мне самому такое досталось, ибо Бог так решил. Он смиряется с расщепленностью мира.
Но время идет, и местный житель учится сдерживать агрессию. Вокруг него формируется магическая сверхструктура — мир наполнен опасностью и демонами, потаенными желаниями и ужасом. Бессознательное рулит. Миф и магия приобретают форму несомненной реальности. Зомби куда страшнее колонизаторов. Сюда же — традиции ритуалов, массовых танцев, почти оргий (выход для эмоций).
#политфилософия #конспект #постколониализм
(3) Как определить, что ситуация для движения за национальное освобождение окончательно созрела и в какой форме это проявится? Есть набор сил:
Националистические партии, интеллектуальные и экономические элиты. Они выступают за реформы, по сути просят: дайте нам больше власти. Они хотят стать частью колониального мира, получать больше ресурсов. Это городские жители, лавочники, учителя, рабочие. Политические лидеры, однако, дают нации имя. Требования местного населения обретает форму.
Но есть крестьяне, которые не включены в этот нарратив. Им нечего терять, а получить они могут много. Насилием можно отплатить за все. Историческая встреча городских революционеров, выдавленных колониальной буржуазией и партиями за излишнюю радикальность / патриотичность, с крестьянами в деревнях, которые УЖЕ ГОТОВЫ.
И есть колониальная буржуазия, которая работает на поддержание колониальной ситуации. Они продвигают идею ненасилия и компромисса (который, по Фанону, в колониализме по определению невозможен).
Почему насильственная борьба за свободу может быть успешной?
После периода первоначального высасывания ресурсов из колоний они превратились в рынок. Население колониальных стран стало покупать товары. Если гарнизон колонии нужно вечно усиливать, торговля ухудшается и товары нельзя экспортировать, то война невыгодна. Экономические и социальные силы монополий выступают не за уничтожение, а за экономические соглашения. Националистические партии колоний зря боятся кровавой войны — она экономически невыгодна. Америка тоже советует Европе освобождать колонии, ведь вечная война там невыгодна капитализму. Америка занимает роль защитницы капитализма в «холодной войне» — потому что иначе в страны третьего мира может заглянуть социалистический блок и навести там свои порядки. Неприсоединение к блокам лучше, чем присоединение к врагу.
Кровавая освободительная война (например, Дьен-бьенфу во Вьетнаме) становится примером как для местных жителей (давайте же скорее повторим), так и для колонизаторов: они спешат договариваться, разоружать, «проводить освобождение» колоний, чтобы не потерять над ними экономический контроль.
Почему насилие в стране не заканчивается после обретения независимости?
Новые страны начинают смотреть по сторонам и видят, что оказались на международной арене, полной того же самого напряжения. Они пытаются предугадать опасности, а не развиваться. Третий мир — в эпицентре битвы двух блоков (текст из конца 50-х годов), под постоянным наблюдением бывших колонизаторов. «Дела идут из рук вон плохо после того, как мы ушли» — центральный нарратив (колонизаторы ведь сами и разрушили инфраструктуры и связи, когда уходили). Их идентичность была выкована в борьбе, но и весь дальнейший путь — это тоже борьба (за развитие и процветание). Помогать ведь никто не спешит, все строят атомную бомбу. Колониализм продолжает экономически давить на бывшие колонии: мол, хотели независимости? Пожалуйста. Дальнейший путь — крайняя бедность или экономическая зависимость. Дальше Фанон пишет, мол, верните украденное, вон Германию же вы заставили платить! Но все мы видим, чем все закончилось.
(3) Как определить, что ситуация для движения за национальное освобождение окончательно созрела и в какой форме это проявится? Есть набор сил:
Националистические партии, интеллектуальные и экономические элиты. Они выступают за реформы, по сути просят: дайте нам больше власти. Они хотят стать частью колониального мира, получать больше ресурсов. Это городские жители, лавочники, учителя, рабочие. Политические лидеры, однако, дают нации имя. Требования местного населения обретает форму.
Но есть крестьяне, которые не включены в этот нарратив. Им нечего терять, а получить они могут много. Насилием можно отплатить за все. Историческая встреча городских революционеров, выдавленных колониальной буржуазией и партиями за излишнюю радикальность / патриотичность, с крестьянами в деревнях, которые УЖЕ ГОТОВЫ.
И есть колониальная буржуазия, которая работает на поддержание колониальной ситуации. Они продвигают идею ненасилия и компромисса (который, по Фанону, в колониализме по определению невозможен).
Почему насильственная борьба за свободу может быть успешной?
После периода первоначального высасывания ресурсов из колоний они превратились в рынок. Население колониальных стран стало покупать товары. Если гарнизон колонии нужно вечно усиливать, торговля ухудшается и товары нельзя экспортировать, то война невыгодна. Экономические и социальные силы монополий выступают не за уничтожение, а за экономические соглашения. Националистические партии колоний зря боятся кровавой войны — она экономически невыгодна. Америка тоже советует Европе освобождать колонии, ведь вечная война там невыгодна капитализму. Америка занимает роль защитницы капитализма в «холодной войне» — потому что иначе в страны третьего мира может заглянуть социалистический блок и навести там свои порядки. Неприсоединение к блокам лучше, чем присоединение к врагу.
Кровавая освободительная война (например, Дьен-бьенфу во Вьетнаме) становится примером как для местных жителей (давайте же скорее повторим), так и для колонизаторов: они спешат договариваться, разоружать, «проводить освобождение» колоний, чтобы не потерять над ними экономический контроль.
Почему насилие в стране не заканчивается после обретения независимости?
Новые страны начинают смотреть по сторонам и видят, что оказались на международной арене, полной того же самого напряжения. Они пытаются предугадать опасности, а не развиваться. Третий мир — в эпицентре битвы двух блоков (текст из конца 50-х годов), под постоянным наблюдением бывших колонизаторов. «Дела идут из рук вон плохо после того, как мы ушли» — центральный нарратив (колонизаторы ведь сами и разрушили инфраструктуры и связи, когда уходили). Их идентичность была выкована в борьбе, но и весь дальнейший путь — это тоже борьба (за развитие и процветание). Помогать ведь никто не спешит, все строят атомную бомбу. Колониализм продолжает экономически давить на бывшие колонии: мол, хотели независимости? Пожалуйста. Дальнейший путь — крайняя бедность или экономическая зависимость. Дальше Фанон пишет, мол, верните украденное, вон Германию же вы заставили платить! Но все мы видим, чем все закончилось.
❤4🤯1😱1
#политфилософия #конспект #постколониализм
Дополнительно:
Сартр в предисловии к первому изданию книги писал: “You who are so liberal, so humane, who take the love of culture to the point of affectation, you pretend to forget that you have colonies where massacres are committed in your name.” Само предисловие
Ханна Арендт потом критиковала текст Сартра в статье «О насилии», но на самого Фанона почти не ссылалась.
Those delighting in, or alarmed by, the spectre of armed Black men on American streets barely noticed the specific context of Fanon’s book—his experience of a ferocious Western resistance to decolonization that by the early nineteen-sixties had consumed hundreds of thousands of lives. Статья про Фанона в Нью-Йоркере
Черная кожа, белые маски (пер. с франц. Дмитрия Тимофеева) — первая глава более ранней книги Фанона, где он менее радикален (и более поэтичен). Производит интересное впечатление!
Дополнительно:
Сартр в предисловии к первому изданию книги писал: “You who are so liberal, so humane, who take the love of culture to the point of affectation, you pretend to forget that you have colonies where massacres are committed in your name.” Само предисловие
Ханна Арендт потом критиковала текст Сартра в статье «О насилии», но на самого Фанона почти не ссылалась.
Those delighting in, or alarmed by, the spectre of armed Black men on American streets barely noticed the specific context of Fanon’s book—his experience of a ferocious Western resistance to decolonization that by the early nineteen-sixties had consumed hundreds of thousands of lives. Статья про Фанона в Нью-Йоркере
Черная кожа, белые маски (пер. с франц. Дмитрия Тимофеева) — первая глава более ранней книги Фанона, где он менее радикален (и более поэтичен). Производит интересное впечатление!
The New Yorker
Frantz Fanon’s Enduring Legacy
The post-colonial thinker’s seminal book, “The Wretched of the Earth,” described political oppression in psychological terms. What are its lessons for our current moment?
🔥3🤔1
На философии не заработаешь, говорили они
🔥21